
Котэ Марджанишвили (К. Церетели)
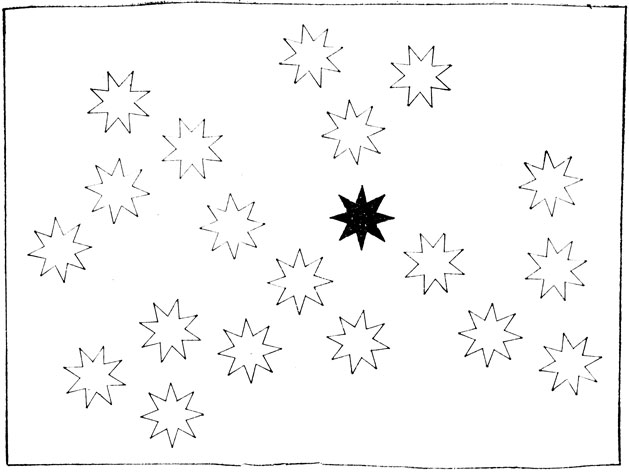
Когда Котэ Марджанишвили снял свой первый фильм - "Накануне грозы" (1925), - за плечами у него уже был достаточно большой творческий путь и громкое имя одного из самых ярких режиссеров советского театра. Правда, практическое его знакомство с кинематографом состоялось значительно раньше, еще до революции. В 1914 году в Киеве он поставил пантомиму А. С. Вознесенского "Слезы", которая, в сущности, была своеобразным киноспектаклем. Известный русский кинопромышленник А. Ханжонков сразу подметил эту особенность марджановского спектакля и предложил запечатлеть его па пленке. И хотя Марджанишвили, по-видимому, неохотно отнесся к этому предложению (спектакль на пленку заснял другой режиссер), - все-таки это была марджановская постановка. По словам Ханжопкова, "она принесла фирме много прибыли и славы". "Я без изменения перенес на пленку интереснейшую театральную постановку сезона - пантомиму "Слезы" - вспоминает далее Ханжонков, - история этой постановки такова: режиссер московского Художественного театра К. Л. Марджанишвили организовал небольшую труппу для постановки пьесы без слов в девяти картинах - пьесы драматурга А. С. Вознесенского в декорациях художника Симова, со специальной музыкой композитора И. А. Сац. Постановка была как бы перенесена с экрана на сцену и поражала оригинальностью и сходством с кинематографией. Эта пьеса и была теперь водворена на экран".

'Гоги Ратиани'
Несмотря на острую заинтересованность новой музой и ее возможностями, Марджанишвили с большим недоверием относился к существовавшему в те годы кинопроизводству. Ни Ханжонков, ни Дранков не теряли надежды заполучить талантливого, остро чувствующего современность мастера. Но все попытки привлечь его к делу были тщетными. Случалось и так, что Марджанишвили соглашался, заключал договор и... в последний момент отказывался. Срывались поистине грандиозные планы кинодельцов, оповещавших публику о "новых постановках Марджанова". В одном из номеров "Петроградского листка" (за 22 августа 1916 года) сообщалось, что режиссер К. А. Марджанишвили приглашен кинематографическим обществом для съемок тридцати (!) картин. "К постановке некоторых он уже приступил".

'Гоги Ратиани'
В начале 1917 года в прессе появился еще один широковещательный анонс - Котэ Марджанишвили работает над большой кинокартиной, историческим фильмом-драмой "Дмитрий Самозванец".
По-видимому, пи один из этих фильмов не был снят, так как сведения о них до пас не дошли и сам режиссер никогда о них не упоминал.
Итак, первый свой фильм Котэ Марджанишвили снял, уже работая в Грузии, в Тифлисе. Он имел два названия - "На кануне грозы" и "Буревестники" - и был поставлен по сценарию известного грузинского драматурга Шалвы Дадиани. Один из первых энтузиастов отечественного кинопроизводства, Шалва Дадиани пытался наладить это дело еще до революции и участвовал в первых грузинских советских фильмах как сценарист и актер. Фильм снимался новичками, вне коллектива только образовавшейся в 1923 году кинофабрики Госкинопрома Грузии, и это сильно повлияло па его технические и профессиональные качества. Ни картина, ни сценарий но сохранились, и сейчас трудно оценить их подлинные достоинства, оперируя лишь весьма противоречивыми высказываниями современников. Совершенно очевидно лишь то, что грузинская общественность горячо приветствовала приход в кино большого мастера сцены и связывала с ним перспективы дальнейшего роста отечественной кинематографии.

'Амок'
В основу фильма был положен эпизод подпольной борьбы грузинских большевиков. По отзывам прессы, наиболее яркой и интересной оказалась в фильме та массовая сцена, в которой было показано народное театрализованное зрелище - "коеноба", выражавшее свободолюбивый и патриотический дух народа. И это не удивительно. Марджанишвили тщательно изучал народные обычаи и праздники, связанные с народными театральными традициями, и последовательно стремился к творческому освоению этих традиций в современном театре.

'Амок'
В творческой биографии Марджанишвили первая съемка оказалась событием отнюдь не столь незначительным, как это казалось многим его биографам. Марджанишвили пришел в кинодело, ведомый страстью, темпераментом, интересом ко всему новому. И вдруг оказалось, что одной страсти и таланта театрального режиссера недостаточно для того, чтобы одержать победу в кино. В статье "Pro domo suo" (газ. "Кино-мушаки" 1924, XII), написанной сразу же после окончания работы над фильмом, Марджанишвили раздумывает над спецификой этого удивительного искусства, пытается выяснить для себя особенности творческой лаборатории кинорежиссера, определить функции актера в кино. Эта статья проникнута чувством радостного удивления перед возможностями кино, восхищением его перспективами. Марджанишвили пишет и о том, что, конечно, кинематографу нужен профессиональный актер, знающий технику актерского творчества, а не дилетант. "Во мне окончательно сложилось убеждение, что если для театра требуется актер, а не любитель, то тем паче для кино нужен актер и только актер. Я потому останавливаюсь на этой мысли, что часто встречаешься с защитниками идеи приглашения на соответствующие роли людей, подходящих только по внешности".

'Мачеха Саманишвили'
Марджанишвили ввел кинематограф в русло своих основных проблем. Съемки фильма стали для него творческой лабораторией, где накопленный кинематографический опыт можно было бы использовать для реформы театра.
В том же русле оказался и лучший фильм Марджанишвили - "Мачеха Саманишвили", созданный им в 1927 году по сценарию С. Клдиашвили и Н. Шенгелая. Проблема классовая, социальная нашла в этом фильме оригинальное толкование. Автор сосредоточивает внимание на трагикомической судьбе мелкопоместного дворянина, обреченного вместе со своим классом, но спесивого и чванливого, смешного в своих потугах сохранить "честь сословия". В отношении к первоисточнику фильма, одноименной повести классика грузинской литературы Давида Клдиашвили, авторы фильма допустили серьезные отклонения. Представитель мелкопоместного грузинского дворянства писатель Давид Клдиашвили сумел создать необыкновенно яркую галерею характеров людей своего сословия. Но отношение его к своим героям было на грани смеха и слез.

'Мачеха Саманишвили'
Режиссер избрал путь осмеяния быта и нравов мелкопоместного грузинского дворянства, пе отказываясь при этом и от весьма острых, доведенных до гиперболы комедийных ситуаций. Фильм поражает пас смелостью отступлений от жанровых особенностей первоисточника. Чем это вызвано? Стремлением обострить социальную сторону проблемы произведения или желанием поэкспериментировать в комедийном жанре? Чтобы ответить па этот вопрос, скажем несколько слов об интриге, на которой строится фильм, сделанный в плане острой, стремительно развивающейся комедии.
...Престарелому дворянину Бэкине Саманишвили взбрело в голову жениться. Сын его Платон и невестка Мелане в ужасе от того, что возможное появление еще одного наследника поставит их перед необходимостью делить и без того нищее поместье. Тогда Платону приходит в голову отправиться самому на поиски своей будущей мачехи - женщины, которая бы оставалась бездетной по крайней мере после двух браков.

'Трубка коммунара'
Необычная одиссея Платона заканчивается успешно. В одном селении он находит вдову, которая и стара и дурна собой, зато бездетна и дворянского звания. Родственники Элене - так зовут вдову - и сами бы рады избавиться от лишнего рта, выдать тетушку замуж, но за дворянкой полагается приданое; весь же скарб тетушки Элене легко помещается в узелке. Тогда обе стороны решают имитировать похищение.
Кончается фильм трагикомической коллизией. После недолгого спокойствия, воцарившегося в доме Саманишвили, над головой бедного Платона разражается гроза. Бэкине снова становится отцом. Мачеха родила сына.

'Трубка коммунара'
К работе над фильмом Котэ Марджанишвили привлек одаренных театральных актеров: Ш. Гамбашидзе (Бэкине), А. Васадзе (Платон), А. Жоржолиани (Аристо), Н. Джавахишвили (Элене), Ц. Цуцупава (Мелане). Завершив этот удивительно точный подбор актеров на роли, Марджанишвили приступает к исследованию каждого характера в отдельности. Тем самым он усиливает обличительную тенденцию произведения, заостряет черты социального конфликта, подчеркивая паразитизм отмирающего класса. Остро характерные образы героев даны в ярком сатирическом освещении.

'Трубка коммунара'
Бэкине - спесивый и нищий дворянин - в фильме наделен запоминающимися индивидуальными чертами. Если в произведении Д. Клдиашвили и в многочисленных театральных постановках, придерживающихся того же жанра, образ Бэкине окутан неким флёром трагикомичного рыцарского благородства, то в фильме это уже просто чванливый, напыщенный и самодовольный самодур. Его одеяние бесформенно и небрежно, вид неопрятный. Ходит он босиком и в несвежем белье. Лицо небрито, волосы всклокочены, а непомерно длинные усы залезают ему в рот. Хоть и гоголем выступает Бэкине перед своими домочадцами, производит он жалкое впечатление. Как и в театре, опираясь прежде всего на данные актера, Марджанишвили стремится дополнить образ. специфическими средствами кино. Для того чтобы подчеркнуть смехотворность затеянной Бэкине женитьбы и блудливость старого самодура, Марджанишвили прибегает к укрупненной детали. В кадре вдруг появляется лукавый глаз молодящегося старика, который щурится и подмигивает миловидной односельчанке, а затем - губы, расплывающиеся в самодовольной и сладострастной улыбке. Острую характеристику находит Марджанишвили для образа Платона, подчеркивая постоянную неуравновешенность, неустойчивость его социального положения. Платон то взрывается в истерических вспышках гнева и отчаяния, то затихает в тупой апатии. Его постоянно бегающие глаза выражают растерянность и панический страх неврастеника.
Хотя Марджанишвили активно использует средства кино для обострения характеристики героев, не все еще выяснено им в различии специфики кино и театра. Часто применение крупного плана, детали в фильме не задевают фантазии зрителя. Укрупненной детали не хватает емкости, передающей движение сюжета, раскрывающей смысл сцены, потому на экране появляются иллюстрирующие надписи. То же самое можно сказать и о методах индивидуализации героя. В костюме, в деталях грима, во всем облике Бэкине еще многое от театрального гротеска, только подчеркивающегося объективом. Марджанишвили здесь еще нащупывает пути освоения кинематографической выразительности. Зато натурную природу кинематографа режиссер сумел ощутить сразу, со всей полнотой. Образ разрушенной, запущенной дворянской усадьбы он рисует убедительно, в подлинно реалистической кинематографической манере. Объектив как бы оглядывает все уголки усадьбы, фиксируя внимание зрителя на полуразвалившемся заборе и покосившихся, прогнивших балках, копошащихся в грязи полуголых ребятишках; сочетая монтаж и композицию кадра, внутрикадровое движение, режиссер акцентирует, драматизирует тесноту и скученность в усадьбе, где ютятся, натыкаясь друг на друга, люди, куры, свиньи. Уныние домочадцев, угнетенных мыслью о возможном разделе имения, режиссер монтирует с разгулом веселья во дворе, где носится ватага неухоженных детей Бэкине, а кошка с собакой доедают утащенные со стола куски. В кадре появляется многозначительная надпись: "Коль земли клок, то и дворянство не впрок". С большой точностью запечатлена в фильме деревенская жизнь: косьба кукурузы и завязывание ее в снопы, домашняя работа, сенокос... Остроумно и жанрово точно поставлен эпизод похищения мачехи, которого нет в повести. Здесь придумано несколько смешных ситуаций. Например, неуклюжая и тучная "невеста", будучи "похищена" через окно, попадает ногой в корыто. Родня ее, спрятавшись за ставнями, с нетерпением наблюдает за похитителями, чтобы, когда они отъедут подальше, поднять приличествующий ситуации истошный крик. Но смешные эпизоды, отражавшие ироническое отношение режиссера к происходящему, нигде не превращаются в бессмысленное комикование. Все смешное вытекает из логики характеров фильма, комизма их положения.
Фильм был начисто лишен той ностальгии и грусти, которая характерна для повести. Либеральный гуманизм по отношению к паразитирующей группе людей не устраивал авторов экранизации, которые создали злую и острую сатиру, вскрывающую классовые противоречия. Фильм был поставлен с позиции современника революции, для которого гибель нетрудового сословия стала четко осознанной исторической закономерностью. Котэ Марджанишвили, прекрасно чувствовавший и знавший творчество Давида Клдиашвили, вполне сознательно избрал этот путь экранного воплощения "Мачехи Саманишвили".
Долгое время "Мачеха Саманпшвили" считалась фильмом неудачным. Кроме того, зрителей и критику того времени, видимо, шокировало непривычное гротесковое решение хорошо усвоенных ими характеров Давида Клдиашвили. Только значительно позднее, уже в 60-е годы, этот фильм Марджанишвили был по достоинству оценеп и нашел свое место в истории грузинского кино как фильм, в котором наиболее ярко воплотились обогатившие грузинский кинематограф влияния реформаторского театра, с одной стороны, и передовой литературы - с другой.
Экранизация повести Д. Клдиашвили приблизила кинематограф к произведениям критического реализма и к актуальным проблемам, которые жизнь выдвигала перед молодым грузинским киноискусством. Такой подробной разработки ролей, профессиональной работы над характерами, как в "Мачехе Саманишвили", грузинское кино тех лет еще не знало. Повторим: основной упор в фильме делался на актера. Поэтому именно с фильма "Мачеха Саманишвили" началось утверждение школы грузинских киноактеров, среди которых было немало учеников Марджанишвили. С появлением профессианально разработанного и сыгранного национального характера грузинское кино приблизилось к жизни народа, чего ему в начале 20-х годов так недоставало. Эта связь в дальнейшем стала основой становления первого поколения грузинских кинематографистов - Николая Шенгелая, Михаила Чиаурели, Михаила Калатозова, Георгия Макарова, Михаила Геловани...
Следующий фильм Котэ Марджанишвили, "Гоги Ратиани", был разведкой современного жизненного материала. Фильм назывался именем реально существовавшего маленького свана, которого экспедиция Госкинопрома обнаружила в горах Свапетии. Мальчик оказался способным актером. Марджанишвили специально для него и для его сверстника Ш. Дадешкелиани, в будущем известного циркового артиста, написал сценарий - историю жизни двух сирот, потерявших родителей, прошедших мытарства и нужду. Все эти эпизоды фильма, как и сцена неожиданной встречи с сестрой, которую Гоги считал безнадежно потерянной, сняты в традиционном стиле мелодрамы начала века и никаких примет времени не носили. Но был в фильме и неожиданный любопытный ход: ребята попадали на праздничную демонстрацию, и камера оператора С. Забозлаева фиксировала выдающихся людей того времени на трибунах, взволнованные, радостные лица рабочих и служащих, стихийно возникавшие пляски и песни на улицах. Далее, оказавшись у добрых людей, герои фильма, постепенно обретали спокойствие и уверенность в своем будущем. И тут снова появлялась любопытная документальная съемка: известные деятели культуры Грузии - поэты Тициан Табидзе и Паоло Яшвили, композитор и хормейстер Котэ Потсхверашвили, режиссер Александр Цуцунава и другие, принимая участие в судьбе маленьких героев, играют сами себя.
Возможно, Марджанишвили почувствовал фальшь и несостоятельность в надуманных ситуациях мелодрамы и потому потянулся к натуре, к реально существующим людям, документальным съемкам демонстрации. Сейчас ответить на этот вопрос трудно. Но на сегодняшний день именно эти кадры фильма представляют интерес.
В 1928 году, в период особенно интенсивной работы в театре, Котэ Марджанишвили ставит еще два фильма - "Амок" ("Закон и долг") по Цвейгу и "Овод" по известному роману Войнич.
Еще через год появился его фильм "Трубка коммунара", снятый им по сценарию Ильи Эренбурга. Тема всех трех фильмов - революция.
Смелое вмешательство Марджанишвили в проблематику повести Цвейга "Амок" сделало фильм остро социальным, революционным. Психологическая подоплека повести, раздумья автора о сложности взаимоотношений людей в буржуазном обществе, о жестокости и милосердии, о сострадании и эгоизме, о лицемерии и аморальности закона послужили лишь толчком для фантазии режиссера. На этой основе он строит совершенно иное произведение - остро публицистическое, остро социальное, плакатное.
Темой фильма стала вопиющая непримиримость, несовместимость жизненных противоречий в буржуазном обществе. Для того чтобы острее акцентировать социальные моменты, Марджанишвили строит фильм на материале рассовой дискриминации. В соответствии с новой задачей меняются и сюжетные коллизии.
В фильме белая женщина (Белая дама) полюбила чернокожего. Плод их любви - чернокожий ребенок - может стать угрозой для их жизни. Белая дама идет к врачу и умоляет спасти ее от позора и гибели. Но врач отказывает ей в помощи - он не в состоянии переступить закон. Женщина в отчаянии уходит.
Совершенно неожиданно в фильме возникает еще одна сюжетная линия, которой не было в цвейговском оригинале. С помощью параллельного монтажа режиссер разоблачает цинизм и лицемерие врача. Нищие пожилые негры вместе с больной беременной негритянкой ищут отца ребенка - им оказывается тот самый врач, который так свято чтит законы. Врач отправляется на поиски белой женщины, пытаясь исправить свою ошибку не потому, что им движет гуманное чувство. Просто - она белая женщина. По отношению же к черной женщине он не испытывает никаких угрызений совести*.
* (Другой вариант пересказа этого фильма см. в аннотированном каталоге "Советские художественные фильмы", т. 1. М., "Искусство", 1961, с. 194 (р е д.).)
Коллизия эта надумана и чересчур прямолинейна. Но она перекликается с прологом фильма, который начинает тему дискриминации. В прологе - сцены массового избиения негров, издевательств над черными женщинами и стариками. Естественно, такая экспозиция фильма была совершенно не предусмотрена оригиналом, но кадры эти, налипающие фильм, соответствуют общему гуманному звучанию фильма.
Социальные мотивы так же остро и плакатно прозвучали и в двух последних фильмах Марджанишвили - "Оводе" и "Трубке коммунара". Столь же смело Марджанишвили вторгается в ткань романа Войнич, чтобы осовременить его, показать, что именно за победившую революцию боролись герои "Овода". Он рассказывает эту историю с позиции гражданина страны победившего социализма. Поэтому вслед за расстрелом Артура на экране появляется надпись: "Мы молодость. Мы весна. Мы будущее".
Творческая фантазия режиссера в последних двух его фильмах направлена на создание революционного пафоса, приподнятости тона повествования о "безумстве храбрых".
По принципу столкновения взаимоисключающих сил, как и в "Амоке", построил Марджанишвили свою картину "Трубка коммунара". Версаль и народ, богатство и нищета, изобилие и голод, труд и праздность... Таковы на этот раз контрастные начала в рассказе о маленьком мальчике - герое баррикад.
По своей идейно-художественной ценности ни один из снятых позднее фильмов - "Гоги Ратиани", "Амок", "Овод", "Трубка коммунара" не подымается до уровня "Мачехи Саманишвили".
Снятые в годы напряженной работы в театре, фильмы эти носят следы поспешности, торопливости. Хотя в них заняты яркие актеры Ната Вачнадзе, Александр Имедашвили, Ушанги Чхеидзе, роли все же не столь четко отработаны, как в "Мачехе Саманишвили". Основной упор в этих фильмах Марджанишвили делает на изобразительных средствах кино. Однако интересные, дерзкие по своей фантазии и широте замыслы его получают поверхностное, прямолинейное решение.
Надо учесть еще и то обстоятельство, что буйная, нетерпеливая режиссерская фантазия Марджанишвили постоянно вступала в острейший конфликт с весьма примитивной в те годы техникой Госкинопрома Грузии. Поэтому в большинстве случаев его эксперименты в области кинематографической выразительности были очень интересны но идее и слабы по исполнению. И все-таки в каждом из этих фильмов видны следы творческой мысли большого художника.
Весьма любопытны, в частности, те средства, к которым Марджанишвили прибегал для обострения динамики действия. В "Оводе", например, объяснение Артура и Джеммы происходило на ветру. Ветер зло трепал одежду молодых людей, бил им в лицо, уносил шляпу Джеммы. Важно, что этот формальный прием не замкнулся в себе. Ветер в фильме становился образом зла, вторгающегося в светлые души молодых людей. Или: впервые возникнув в прологе фильма сплетенные в любовном пожатии руки девушки и юноши к концу фильма отзывались крупным планом рук - застывших в неподвижном отчаянии рук Артура, закованного в кандалы: выразительное свидетельство одиночества и обреченности узника.
В "Амоке" в сцене преследования врачом Белой дамы Марджанишвили своеобразно использует сложный динамический монтаж по контрасту и по ассоциации.
Врач торопится догнать свою пациентку. По ветру развеваются его белый халат и черный шарф убегающей от него дамы. Вертящееся колесо велосипеда и глаза врача за роговой оправой очков; белый халат врача и черный шарф дамы - все это монтируется в определенном ритмическом ключе, подчеркивая состояние смятения и страха, овладевшее героями фильма.
* * *
Сегодня, трезво оценивая эти фильмы, созданные почти полвека тому назад, нельзя не отметить, что, несмотря на очевидные слабости, они не стоят в стороне от магистральных путей биографии большого художника и истории развития грузинского кино. Пусть большинство из формальных поисков Марджанишвили не привело к сколько-нибудь значительным открытиям. Но сама тенденция экспериментаторства, которую он принес в грузинский кинематограф, пе могла не оказать плодотворного влияния па молодое поколение кинематографистов. Кроме того, фильмы Марджанишвили наладили взаимосвязи грузинского театра и кино, которые с каждым годом становились все сложнее и плодотворнее.
Группа "лефовцев", к которым принадлежал и ученик Марджанишвили Николай Шенгелая, категорически требовала "обрезать пуповину, связывающую кинематограф с театром". Но борьба эта выражалась в основном в декларациях. На самом же деле молодому грузинскому кинематографу было по пути с грузинским реформаторским театром.
Театр Котэ Марджанишвили и Александра Ахметели в те годы впервые в грузинском искусстве осуществил спектакли, на языке глубоко впечатляющих образов рассказавшие о героике борьбы народа за свою независимость, о его стойкости и непреклонности в этой борьбе. Еще со времен первой постановки Котэ Марджанишвили на грузинской сцене "Овечьего источника" театр накопил опыт работы над созданием коллективного героя, решения сложных, широко развернутых массовых революционных сцен. Уже в конце 20-х годов, к моменту появления "Элисо" Н. Шенгелая, использование этого опыта кинематографом становится совершенно очевидным, хотя его сгоряча так активно отрицали молодые кинематографисты - "лефовцы".
С другой стороны, приход кино заставил людей иначе мыслить, и передовой советский театр, каким был театр Котэ Марджанишвили, не мог не считаться с этим.
Можно утверждать, что еще в середине 20-х годов Марджанишвили предугадал взаимное обогащение театра и кино, на практике точно и верно определил принцип их взаимосвязи, и сделал это творчески, бережно и тактично по отношению к театру.
В своих спектаклях Марджанишвили щедро пользовался средствами кино, но "кинофицирование" спектаклей нигде пе выливалось в искусственное насаждение приемов кино. Активно используя проекцию, крупный план, затемнение и наплыв, изобразительный подтекст, Марджанишвили пе брал
их напрокат из кинематографа. Он создавал спектакли, которые целиком и полностью принадлежали сценическому искусству. Творчески перерабатывая опыт кино, он лишь обогащал театральный организм, расширял его рамки, давал волю полету фантазии...
Кинематограф был филиалом творческой лаборатории большого мастера сцены. Здесь, в этой своей мастерской, Марджанишвили ставил и те опыты по синтезу театра и кино, которые принесли ему блистательную победу в спектакле по пьесе Э. Толлера "Оп-ля, мы живем!" (1928), где вместе с замечательным художником, изобретателем стереокиноаппарата Давидом Какабадзе он предвосхитил появление "Латерны-магики". Здесь были крупные планы, параллельный монтаж отражения в зеркалах происходящего на сцене и на экране. И все это прекрасно синтезировалось в подлинное сценическое искусство.
С 1929 года, после "Трубки коммунара", Марджанишвили не поставил ни одного фильма, хотя в архиве его хранятся сценарии и заявки, написанные им для кино.
Фильмы, снятые Марджанишвили и так скромно им самим оцененные, все же заняли свое место в истории грузинского кино. Кинематографические постановки Марджанишвили никогда не подымались до уровня его спектаклей. Это бесспорно. Однако влияние замечательного советского театрального режиссера на национальный кинематограф трудно было бы переоценить. Экспериментаторский дух, художественные идеи Котэ Марджанишвили проникали в грузинский кинематограф так же плодотворно, как идеи Станиславского в свое время щедро питали русское кино.
|
ПОИСК:
|
© ISTORIYA-KINO.RU, 2010-2020
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'