
Предупреждение из будущего
Вот уже на протяжении 300 лет над западным обществом бушует ураганный ветер перемен. Этот ураган не только не стихает, но, кажется, только сейчас набирает силу.

Столкновение с будущим
Научная фантастика является, пожалуй, одним из самых "разговорных", открыто идеологизированных жанров кинематографа. Это не относится, конечно, к произведениям, где фантастическое просто маскирует обычную детективно-приключенческую схему, к "космической опере" и фильмам о чудовищах. Речь идет, прежде всего, о картинах, посвященных будущему, пытающихся представить политический, социальный, культурный "облик грядущего", экстраполирующих в будущее черты настоящего. В "Метрополисе", "Альфавиле", в "451° по Фаренгейту" или в "Планете обезьян", в фильме "Зардоз" или в картине "Семь дней в мае" герои и авторы беспрерывно говорят, наперебой высказывают свои соображения о взаимоотношениях личности и государства, о путях истории, сравнивают прошлое (реальное настоящее) и их настоящее (предугадываемое будущее). Почти в каждом фильме есть центральная сцена, где сталкиваются главные оппоненты, прямо формулирующие свои позиции и суть конфликта. (В этом смысле научная фантастика - и очень ясный в своих идейных посылках материал и порой не очень интересный для критика; писатель сам берет на себя его работу, формулируя идею, тему произведения.)
Именно в силу чрезвычайной публицистичности этого ряда произведений научной фантастики, определяющей их художественную структуру, понять их можно, только глубоко исследовав круг идей, внутри которого они возникли. А идеи эти прямо определяются литературными произведениями, лежащими в их основе, и шире - концепциями, развиваемыми в современной утопии и антиутопии.
Связь: кинематограф - литература - социология - философия в этом наиболее серьезном направлении научной фантастики очевидна и нерасторжима.
* * *
Хотя термин "утопия" (от греческого "у" - нет и "топос" - место, то есть несуществующее место, в другом варианте - "Ев" - прекрасный и "топос" - место, то есть прекрасная, совершенная страна) появился впервые в XVI веке в книге Томаса Мора "Золотая книга столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии", утопические произведения, утопическое сознание или мечта об идеальном общественном устройстве появились тысячелетиями раньше.
Фантастическое представление об идеальном царстве - страна феакийцев, остров Схерия - появляется у Гомера в "Одиссее". Любопытно, что почти с самого начала утопия избирает местожительством уединенный остров, жители которого сознательно изолировали себя от всего мира, создали идеальный строй, живут просто, счастливо и разумно под управлением царя Алкиноя. Проекты идеального общественного устройства развивает в IV веке до нашей эры Платон. В его "Государстве" и "Законах" выразилась и обычная причина создания утопии: разочарование в существующем строе (афинской демократии, выявившей к этому времени свою историческую непрочность) и мечта об идеальном общественном устройстве (в данном случае о сильном, стабильном государстве, всецело подчиняющем себе отдельную личность, построенном во многом по образцу Спарты).
Особенности утопии, определившиеся у Платона, сохранились в основных чертах и у Мора, и в "Городе Солнца" Кампанеллы, и в "Вестях ниоткуда" Морриса.
Содержание утопии менялось на протяжении веков, она выражала интересы самых различных слоев и классов, как правило, оппозиционных к существующему порядку. Утопия античности и средневековья в поисках идеала обращалась к прошлому или конструировала идеальное общество в вымышленной стране. Это было естественным. В Египте и античной Греции понятие времени еще не соединялось с идеей социальной эволюции. Нужен был опыт ломки старых представлений о мире, опыт смены исторических формаций, чтобы прийти к идее будущего, которое может резко отличаться от настоящего.
Девятнадцатый век и произведения утопического социализма приносят резкое усиление прогностической функции утопии. Ее царство из неоткрытых территорий переносится во время, которое должно наступить. Оценивая роль утопического социализма, Энгельс писал: "...немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна - трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно.."*.
*(Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 498 - 499.)
Что внес в утопию XX век? Прежде всего чрезвычайно резкое увеличение количества утопических произведений. По существу, большая часть современной научной фантастики пытается предугадать будущее. Будущее стало реальной силой, которая вторгается в нашу жизнь и требует ответных реакций и решений. Естественно, что социология и фантастика пытаются угадать смысл, тенденцию и результаты надвигающихся перемен.
Вторая и наиболее важная черта утопической литературы - неуклонное смещение центра тяжести с утопии на антиутопию. Видения мрачного будущего все более решительно вытесняют в социологии и научной фантастике картины грядущего счастливого мира.
Известный советский философ Э. Араб-оглы в обстоятельной статье "В утопическом антимире"* приводит красноречивый список трудов, посвященных развитию утопии и антиутопии на Западе. Сами названия этих работ свидетельствуют о состоянии жанра: Ф. Л. Баумер - "Апокалиптика XX столетия", Кингсли Эмис - "Новые карты ада", Ч. Льюис -"Последняя ночь мира", Ч. Уолш - "От утопии к кошмару", М.-Р. Хиллегас - "Будущее как кошмар".
*(Араб-оглы Э. В утопическом антимире. - "Лит, газ.", 1972, 23 февр., 1 марта.)
Характерна и та эволюция, которую претерпевают многие крупные социологи и писатели во взглядах на перспективы развития цивилизации и соответственно на утопию и антиутопию. Олдос Хаксли написал свой знаменитый антиутопический роман "Прекрасный новый мир" в 1932 году. Картина регламентированного, стандартизированного мира предстает в этом романе лишь как возможность. В книге "Обезьяна и сущность", написанной уже после второй мировой войны, он показывает нашу планету после двухтысячного года. Земля, пережившая ужасы термоядерной войны, разрушенная цивилизация, деградировавшие одичавшие люди, которые используют книги как топливо и водят на веревочках своих Эйнштейнов.
Можно привести ряд примеров эволюции писателей и философов современного Запада от веры в прогресс, от надежд на мощь науки и грядущее социальное переустройство к разочарованию в техническом прогрессе, который, по их мнению, на место грубых средств принуждения ставит более тонкие и эффективные, который вместо царства свободы приводит человека в машинную пустыню и в конце концов похоронит человечество в общей термоядерной могиле.
Но в чем же причина этого разочарования в утопии и расцвета антиутопии?
Уже на грани XIX - XX веков в творчестве такого крупного писателя, как Уэллс, надолго определившего круг тем и направлений научной фантастики, появляются произведения, экстраполирующие в будущее противоречия буржуазной цивилизации.
Не случайно критика уже в первые десятилетия нашего века отмечала, что социальная фантастика Уэллса со знаком "-", а не со знаком " + ", что своими социально-фантастическими романами он пользуется исключительно для того, чтобы вскрыть дефекты существующего социального строя, а не затем, чтобы создать картину некоего грядущего рая. И в "Машине времени", и в "Войне в воздухе", и в "Войне миров", и в "Первых людях на Луне" поражают "мрачные краски Гойи".
За три года до прихода Гитлера к власти Уэллс написал антиутопию "Самовластье мистера Парема" - историю взбесившегося мещанина, ничтожества, ставшего диктатором. Таким образом, развивая мотивы антиутопии на протяжении почти полувека, Уэллс никогда не оказывался в стане реакции, никогда его произведения не были направлены против социальных перемен, а рисовали угрожающие последствия болезней капиталистического общества.
Но еще до Уэллса англичанин Батлер в романе "Еревон" (1872) показал страну, где запрещены все механизмы. Жители Еревона поняли, что машина несет человеку страшные беды. По мнению же Бульвер-Литтона, в романе "Грядущая раса" (1871) материальная жизнь станет лучше благодаря техническому прогрессу, но искусство погибнет.
Противоречия технического прогресса в условиях капиталистического общества, как подземные толчки, все явственнее ощущаются в произведениях наиболее чутких писателей: англичанина Э. М. Форстера - "Машина останавливается" (1909), немца М. Конрада - "В пурпурной тьме", русского писателя Н. Федорова - "Вечер в 2217 году" (1906). В последней повести показано царство изобилия, где люди разбиты на сотни и тысячи. Право продолжать потомство имеют только избранные. Истинное чувство обречено на гибель.
Антиутопия XIX века и вплоть до первой мировой войны была связана с тревожными предощущениями путей развития буржуазной цивилизации, но не выступала против социальных перемен.
Поэтому реакционность, свойственную многим антиутопиям XX века, нельзя рассматривать как непременное качество антиутопий вообще. Искусство всегда рисовало как желательные, так и нежелательные варианты развития общества. Достаточно вспомнить Свифта. В сущности, что как не сатирическая антиутопия "Путешествия Гулливера"?
Возвращаясь в XX век и помня, что он не явил собой монополию на антиутопию, а лишь многократно увеличил ее удельный вес, посмотрим, каковы же здесь, в нашем времени, мотивы и питательная почва для расцвета антиутопий.
В самой краткой схематической форме можно обозначить следующие обстоятельства.
Две мировые войны с невиданным "прогрессом" в количестве жертв - 10 миллионов в первой, 55 миллионов во второй - и в эффективности средств уничтожения.
Геноцид и лагеря смерти. Теории фашизма, в конце концов, были не так уж новы. Пугающе неожиданной оказалась легкость, с которой они перешли в практику, обрели многочисленных исполнителей. Как писал Эренбург, в годы войны "тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом испытании отказали".
Если мировые войны и Хиросима положили начало многочисленным произведениям, изображающим будущую тотальную военную катастрофу, то опыт фашизма стал поводом для произведений, скептически оценивающих способность человека сопротивляться тотальному насилию, рисующих ужасные последствия его беспрекословного подчинения тирании. В большинстве этих книг разрыв между техническим прогрессом и нравственным рассматривался не в конкретно-историческом контексте, а как результат извечного несовершенства человеческой природы.
Содержанием многих антиутопических произведений последних лет стали нежелательные последствия научно-технической революции: уничтожение естественной среды и кризис информации, демографический взрыв и призрак бунта думающих машин, создание способов управления сознанием и новые средства массового уничтожения.
Несомненно, в основе ряда антиутопий лежит страх перед социальной революцией, перед неизбежным коммунистическим будущим. Он ясно слышится в словах русского религиозного философа Бердяева, которые Олдос Хаксли использовал в качестве эпиграфа к "Прекрасному новому миру": "...утопии могут быть реализованы. Жизнь идет к утопии. И возможно, начинается новый век, в который интеллигенция и образованные классы будут мечтать как избежать утопии, о возвращении к обществу не утопическому, менее совершенному, но более свободному". Слова эти могут быть предпосланы ряду антиутопий XX века.
Таким образом, мотивы антиутопий далеко не однозначны, и каждый раз они требуют дифференцированного подхода. Чтобы правильно оценить антиутопию, понять ее общественную роль, нужно прежде всего определить, что она утверждает и против чего борется, какие социальные идеи ее вдохновляют.
* * *
Вплоть до самых последних лет кинематограф шел за литературой в области научной фантастики, причем шел со значительным отставанием.
Прежде всего - в силу своей молодости. Когда в литературе уже оставался позади Жюль Верн и в полную мощь работал Уэллс, создавая пророческую социальную фантастику, кинематограф еще переживал период наивного увлечения научными и кинематографическими чудесами.
Кроме того, кинематограф - искусство массовое - охотнее обращался к приключенческой фантастике, к борьбе с чудовищами, к космическим похождениям суперменов, чем к попытке анализа социальных противоречий и их экстраполяции в будущее. Научная фантастика приходила на экран в ее наименее научной части, облегчалась, приспосабливалась ко вкусам массового зрителя. Попытки же создания утопий и антиутопий на экране были единичны. До конца 50-х годов кинематограф не шел дальше идей Уэллса, причем перенесенных на экран в достаточно упрощенном виде. Тем более интересны все попытки в этом направлении.
"Метрополис" был первой социальной антиутопией, созданной в кинематографе, и одним из самых дорогих постановочных фильмов 20-х годов. С ним студия УФА собиралась завоевать мировой кинорынок и не пожалела на фильм четыре миллиона марок - огромные по тому времени постановочные расходы. Фриц Ланг отснял 60 тысяч метров материала, из которого была смонтирована картина, длившаяся два с лишним часа, но это колоссальное зрелище не оправдало надежд ни прокатчиков, ни публики. Несмотря на великолепные, впечатляющие постановочные эффекты, картина казалась скучной для рядового зрителя и была недостаточно концептуальной для зрителя интеллигентного. Уэллс назвал "Метрополис" самым идиотским фильмом в мире. Основные обвинения предъявлялись сценаристу - жене Фрица Ланга, Tea фон Гарбоу. Сценарий упрекали в эклектичности, в том, что в нем собраны самые разные и несоединимые темы и ни одна не разрешена логично.
Все сие справедливо, и можно присовокупить к этому и прекраснодушие призыва к классовому миру и розовый финал, где рабочий и капиталист пожимают друг другу руки: "голова" (капиталист) и "руки" (рабочий) объединяются в счастливой гармонии через "сердце" (счастливую любовь).
При всем том "Метрополис" чрезвычайно интересен для анализа и в идейном и в эстетическом плане. И здесь эклектичность, несамостоятельность его сценария выступает как своеобразное достоинство для исследователя, ибо сценарий "Метрополиса" собирает расхожие идеи социальной фантастики своего времени, а гений Фрица Ланга дает им такие мощные изобразительные решения, которые опередили время и надолго сделали "Метрополис" хрестоматией для каждого режиссера, приступающего к съемкам фантастики. И если социальные прогнозы Tea фон Гарбоу кажутся сегодня наивными, имеющими лишь исторический интерес, то эстетические провидения Ланга не потеряли своего значения.
"Мы живем в мире материальных достижений, небывалого развития науки. Но что происходит с нашими сердцами и нашим разумом? Будет ли наше будущее таким, как в этом фантастическом городе?" - таким титром открывается фильм. И на экране идут колонны рабочих с низко опущенными головами, в одинаковых черных одеждах, одна колонна навстречу другой - со смены и на смену по подземному тоннелю - живые роботы индустриального мира.
Этот образ рабочих колонн вызывает в памяти "Прогулку заключенных" Ван Гога (то же ощущение бесконечного замкнутого движения) и графически острые, объединенные ритмом толпы Кете Кольвиц. Мотивы экспрессионизма сразу дают себя знать в фильме, но этим не исчерпываются его изобразительные решения.
Муравьи подземного города, дающего жизнь Метрополису, показываются в глухих коридорах, в герметических лифтах, они поднимаются к своим рабочим местам, обезличенные, стертые. И зона, где живет сын хозяина Метрополиса, Эрик, - роскошный сад, павлины, фонтаны, прихотливое убранство в восточном стиле (образ, который затем будет развит Феллини в "Джульетте и духах") - текучие, мягкие линии, лишенные тех жестких геометрических контуров, в которых показана рабочая зона Метрополиса. В сад случайно заходят на экскурсию дети рабочих:ободранные, худые, испуганные ребятишки жмутся к ногам учительницы, тараща глаза на невиданные растения и фонтаны, а учительница, указывая на девиц и юношей, резвящихся в саду, говорит: "Смотрите, дети, это ваши братья!" Иронический и горький титр (картина была еще немой) сразу определяет основной конфликт и основных противников в обществе будущего, как его представляют авторы фильма. А представляют они его, как и большинство фантастов, просто укрупненным и доведенным до предела в своих социальных тенденциях настоящим, увиденным на уровне предкризисного общества конца 20-х годов, в поляризации богатства и нищеты. Правящий класс, утопающий в роскоши, и превращенные в подземных кротов рабочие - Элои и Морлоки из "Машины времени" Уэллса.
Влияние Уэллса, его "Машины времени" и образа города будущего в романе "Когда спящий проснется", с его многоярусными кварталами мегаполиса, с летательными аппаратами, парящими над крышами домов, ощущается в изобразительном строе этого фильма. И не только в принципе разделения антагонистических классов, живущих на земле и под землей, но и в самом облике Метрополиса - многоступенчатые дома-цилиндры, пересекающиеся надземные дороги, пульсирующий свет, улицы-ущелья. Размах и фантастичность этой удивительной декорации поражают и сегодня, сорок с лишним лет спустя, и напоминают самые дерзкие современные проекты городов будущего. Здесь Фриц Ланг оказался провидцем, - конечно, облик этого города был навеян не только литературными описаниями и кинематографическими ассоциациями, но и контурами Нью-Йорка 20-х годов, проектами городов будущего, создаваемых в эти годы архитекторами-футуристами. Точно так же американизмом в промышленности, американскими темпами в индустрии были навеяны сцены работы в Метрополисе.
Вместе с героем фильма, впервые узнавшим, что в Метрополисе есть еще что-то, кроме садов и фонтанов, зритель попадает в энергетический цех, где рабочие торопливо переходят от одной машины к другой, опуская и поднимая рычаги, в бешеном темпе, ни на секунду не останавливаясь. Американские методы тейлоризации, конвейерной потогонной системы, выжимающей из рабочего все, нашли свой пластический образ в рабочем, как бы распятом на огромном циферблате - Христе индустриальной эры, - мучительно трудно переводящем огромные стрелки, пока его обессилевшее тело не обвисает на циферблате. Уровень жидкости в какой-то колбе - рабочий видит это - неумолимо поднимается за критическую черту, и взрыв сметает все живое.
Ланг не боится прямых ассоциаций. И глазам героя уже видится не сложное сооружение в переплетении шкивов, ремней, в мешанине резервуаров и прессов, а пасть Молоха на ступенчатом возвышении, дымящиеся светильники по бокам и связанные рабы с покорно опущенными головами поднимаются к огромному жадному рту. В таких мифических образах еще представала индустрия перед художниками первых десятилетий века. Стоит вспомнить, что образ Молоха появляется у Горького и Куприна - технический прогресс, индустриальный механизм воспринимаются уже как обретшее самостоятельную жизнь жадное и беспощадное чудовище. Но развитие техники в будущем представляется прежде всего в количественном увеличении этажей зданий, размеров машин, темпов работы, еще большей поляризации богатства и бедности. Да и как иначе можно было бы представить это будущее в Веймарской республике с ее нуворишами, разбогатевшими на послевоенной инфляции, и отчаянной нищетой мелкого люда.
Конечно, и Tea фон Гарбоу и Лангу, как и другим их современникам, несравненно более дальновидным, очень сложно было угадать черты "общества потребления", особенности которого охарактеризовал идеолог "новых левых" неофрейдист Маркузе: "Если рабочий и босс получают удовольствие от одной и той же телевизионной программы и отдыхают на одном и том же курорте, если машинистка наряжается так же, как дочь ее хозяина, если у негра есть собственный кадиллак, и если все они читают одну и ту же газету, то такое взаимное уподобление свидетельствует не об уничтожении классов, а лишь о том, насколько потребности и средства их удовлетворения, которые служат упрочению и сохранению существующего порядка, стали достоянием, присущим всем слоям управляемого общества. ...Однако повышение жизненного уровня и общего благосостояния сопровождается все более усиливающимся подавлением личности, все более универсальным подчинением отдельного человека интересам, идеологии и предрассудкам господствующего общественного порядка"*.
*(Marcuse H. One-Dimensional Man. Beacon Press, Boston, 1964, p. 8.)
Конечно, Маркузе рисует здесь превратную картину всеобщего материального благосостояния, - достаточно обратиться к ежедневной буржуазной прессе, чтобы убедиться в том, насколько остро стоят экономические проблемы перед трудящимися на Западе. Но нельзя не согласиться с его утверждением относительно усиливающегося подавления личности в "обществе потребления".
Только через сорок лет Франсуа Трюффо в фильме "451° по Фаренгейту" по книге Рея Бредбери сумел показать будничный ужас мира потребления с аккуратными коттеджами, автомашинами и обязательной телевизионной антенной над крышей. Цивилизации, которая высасывает и опустошает человека, заставляя его потреблять, вернее и страшнее, чем самая интенсивная физическая эксплуатация.
Фриц Ланг создает величественную фантазию Вавилонской башни будущего с рабочими казармами в самых нижних ярусах под землей, паровыми машинами, электрическими системами над рабочим жильем, а наверху с гигантскими параллелепипедами, кубами небоскребов, залитых электрическим светом. Образ Вавилонской башни реализуется не только как изобразительная метафора, его использует в своей проповеди бедная учительница перед рабочими в катакомбах Метрополиса.
Озабоченный поведением сына и известием о том, что среди рабочих в катакомбах происходят какие-то тайные сборища, Хозяин города отправляется к своему главному советнику, ученому, живущему в таинственном уединении, - его играет исполнитель доктора Мабузе - Кляйн-Рогге. Ученый и безумец, чернокнижник и злодей - в сочетании этих определений рождается образ Ротванга, подводивший итоги определенной традиции немецкого экспрессионизма и в свою очередь открывший галерею сумасшедших ученых американского кино. Ротванг демонстрирует Хозяину искусственную женщину. И вместе с Хозяином решает придать ей черты учительницы Мери, чтобы она обманула рабочих и излечила влюбленного в Мери сына Хозяина. Так возникают еще две основополагающие для фантастического кино темы - тема двойника и тема искусственного человека, робота. Обе они также пришли из немецкого экспрессионизма, обе имели традиции в литературной фантастике и большую экранную судьбу в дальнейшем. Об этом стоит упомянуть еще раз только для того, чтобы показать энциклопедичность "Метрополиса", вобравшего в себя все излюбленные мотивы и образы будущей кинофантастики.
Классическим эпизодом из фильма ужасов выглядит сцена погони за Мери в подземельях Метрополиса. Она мечется в темных коридорах, а за ней неумолимо ползет луч света, ослепляя, пригвождая к стене, выхватывая из темноты то скелет, прикованный к камню, то череп. Луч света загоняет ее в дом Ротванга, и он идет к ней, гипнотизируя безумными мабузевскими глазами, тянется костлявыми руками, а она кричит, цепляясь за решетку; старая схема - чудовище и девушка, переходящая из одного фильма ужасов в другой, - оживает здесь с той эмоциональной силой, на которую способен был только Фриц Ланг. Научная фантастика и фантастика иррационального обнаруживают родство и связь в пределах одного фильма.
Но первооткрывательское значение "Метрополиса" этим не исчерпывается. Герой фильма Эрик отправляется на поиски исчезнувшей девушки, чей крик он успел услышать. И опять-таки, как это будет затем во многих фильмах о домах привидений или современных электронных крепостях, куда пробирается отчаянный разведчик, - самооткрывающиеся и закрывающиеся двери, пустые и угрожающие своей таинственной пустотой комнаты.
Сцена оживления, вернее, удвоения Мери решена с таким постановочным блеском, масштабом и изобретательностью, что могла бы, кажется, украсить любой современный фантастический фильм, а оборудование лаборатории Ротванга вполне годится для изображения подобных лабораторий в "Голдфингере" или "Фантомасе". Безжизненная Мери в стеклянном саркофаге, и в таком же, только стоячем футляре - кукла. Бесчисленные провода, катушки трансформаторов, пульсирующий свет, опоясывающие саркофаги электрические дуги. И постепенно Мери начинает "проявляться" и оживать в кукле - сначала в стуке сердца, затем, как в анатомическом атласе, проступают кровеносная система, кости, а потом муляжное лицо преображается, и вторая Мери сходит с пьедестала, разражаясь торжествующим, злым хохотом. Демон выпущен на волю и начинает действовать помимо желания своих хозяев - снова мотив, который пройдет через всю фантастику. Вместо того чтобы привести рабочих к покорности, Мери разжигает бунт, и, охваченная гневом, масса начинает крушить машины.
Ломаются станки, падают гигантские лифты, взрываются электрические агрегаты. Город погружается во тьму. Эти эпизоды разгрома и тотального разрушения, где Ланг опять-таки выступает провидцем современных, апокалиптических картин, отражали страх немецких буржуа перед грядущими социальными потрясениями.
В экстазе разрушения рабочие открывают шлюзы, и подземная река вырывается, чтобы затопить их собственные убогие жилища, убить их детей. Сцена потопа пророчески сбылась в 1945 году, когда по приказу Гитлера воды Шпрее были выпущены в метро, чтобы затопить укрывшихся там жителей Берлина. Но поставленные по следам реальных событий эпизоды в фильме Пабста "Последнее действие" оказались бледнее, чем кинофантазия Ланга. Может быть, секрет в том, что с потоками бушующей воды он столкнул только детей. Как мышки, бегут из подземных нор-трущоб подростки, несут на руках и тащат за собой маленьких детей, а со всех сторон потоки воды, и кажется, нет выхода...
Характерно, что даже хаос и катастрофа у Ланга упорядочены и организованы. Нарочито живописные композиции, "балетные" жесты, ритмические повторы. В связи с более ранним фильмом Ланга "Сага о Нибелунгах" Зигфрид Кракауэр писал: "Абсолютная авторитарная власть утверждает себя, располагая подвластных ей людей в виде приятного для глаз рисунка. Это можно было видеть при нацистском режиме... "Триумф воли", официальный нацистский фильм о Нюрнбергском гитлеровском партийном съезде 1934 года, показывает, что в создании массового орнамента из людей гитлеровские операторы черпали вдохновение из фильма "Нибелунги"*. На первый взгляд парадоксально, что Фриц Ланг, "услышавший" подземные толчки духовного кризиса нации, открывший и разоблачивший психологические комплексы и методы нацизма в "Завещании доктора Мабузе" и сам эмигрировавший из Германии, стал одним из творцов той орнаментальной ложной барочности, которая стала официальной в третьем рейхе. Но такова сложная диалектика взаимоотношений художника с эпохой, притяжений и отталкиваний, эстетических связей с искусством своего времени, даже когда он находится с ним в резком идейном столкновении.
*(KracauerS. From Caligari to Hitler. N. Y., 1974, p. 94-95.)
Однако вернемся к фильму.
Двойники действуют одновременно. Истинная Мери спасает детей, ведя их наверх, через вентиляционные люки. А лжеМери упивается разгромом и пленяет своими чарами элиту Метрополиса, превращая гибель в карнавал, - как корреспондируются эти эпизоды со "Сладкой жизнью" и "Сатириконом"!
В финале фильма толпа, понявшая, что она стала жертвой провокации и погубила своих детей, бросает лже-Мери в огонь, из пламени еще долго несется ее дикий хохот, и сквозь дым видно, как под человечьим обличьем проступает стальной каркас. А Эрик спасает Мери из рук Ротванга, в ожесточенной схватке сбрасывает его с купола собора, и благодарный божественному милосердию Хозяин символически протягивает руку представителю рабочего класса, которому отныне уготована иная, счастливая судьба.
Конечно, этот идиллический финал сегодня вызывает лишь ироническую улыбку. Но он не может зачеркнуть фильм. Ибо наивность социальных рецептов и моральных проповедей, примитивность любовных линий соединяются здесь и с поразительными пророческими догадками, с интереснейшими эстетическими открытиями, которые мы узнаем в работах художников 50 - 60-х годов.
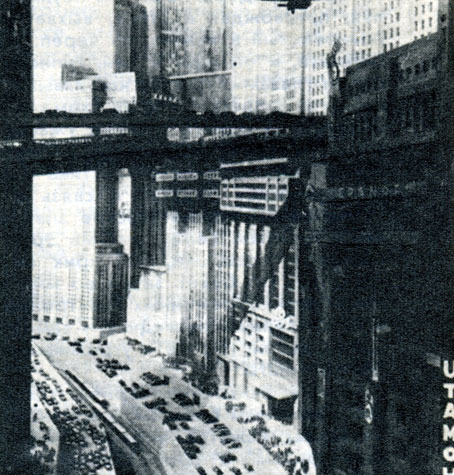
'Метрополис'. Так в 1926 году представлялся Лангу образ города будущего и его конфликты
Для кинофантастики "Метрополис" явился основополагающей картиной не только потому, что открыл собой ряд социальных киноутопий, но и потому, что развил мотивы и характеры, ставшие затем типологическими в фантастическом кино.

'Метрополис'
После "Метрополиса" долгое время кино показывало отдельные фантастические ситуации, невероятные открытия и связанные с ними события, не решаясь воссоздать цельный мир будущего. Эта попытка была снова сделана через десять лет в фильме Камерона Мензиса по сценарию Уэллса, который так и назывался "Облик грядущего".

'Метрополис'
В художественном смысле фильм не представляет собой ничего примечательного. Он интересен как взгляд в будущее из 30-х годов, как иллюстрация мыслей Уэллса о предстоящей войне и человечестве после двухтысячного года, оказавшихся в некоторых моментах на удивление верными и пророческими, а часто наивными и далекими от реальности. Кое в чем сценарий Уэллса был навеян его старой книгой "Война в воздухе" (1908), где, по мнению специалистов, он удивительно точно предсказал особенности будущих воздушных боев первой мировой войны. Действие фильма начинается с общей войны в 1940 году - угадано даже время - и заканчивается в 2036 году, когда человечество посылает ракету к другим планетам, - здесь Уэллс оказался слишком осторожен в своих предположениях.
Фильм, в котором за два часа рассказывается история человечества на протяжении целого века, естественно, не может подробно останавливаться на индивидуальных судьбах, - как на крупномасштабной карте, здесь очерчены лишь материки эпох, пики глобальных событий, но в них вкраплены эпизоды, которые должны подчеркнуть несомненность и реальность происходящего.
"Облик грядущего" начинается с описания мирного рождества в неком символическом городе. Он назван Эвритаун - любой город. Пока еще, как обычно, звучат рождественские хоры, тянутся безработные, ходят старые дамы из Армии спасения. Но уже висят плакаты, предупреждающие о возможной войне. И в светской гостиной праздник прерывается тревожным телефонным звонком - к городу приближается неизвестная воздушная эскадра.
У Камерона Мензиса и Уэллса нет победителей в войне. Наиболее точно выражает мысль авторов эпизод, когда один из бесчисленных бипланов, летящих к берегам Англии, врезается в землю у Дувра, и раненый летчик отдает свою маску оказавшейся рядом девочке, чтобы спасти ее от газа, выходящего из разбитых баллонов на его самолете. "Быть может, я убил этим газом ее отца и мать, а теперь умираю сам...".
Война бессмысленна, победа недостижима.
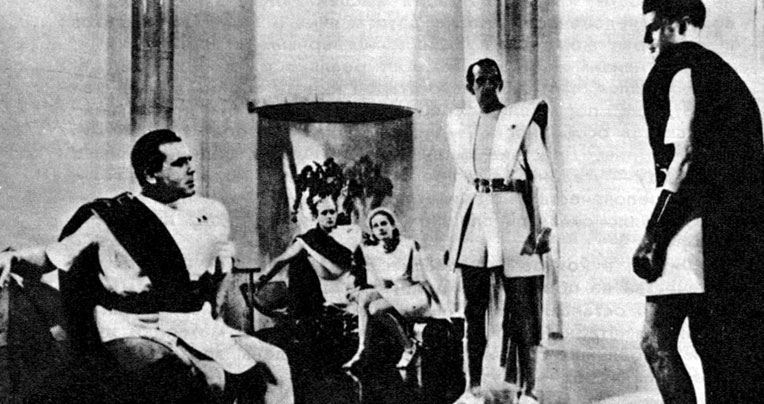
'Облик грядущего'. Заканчивается эпоха диких войн, торжества инстинктов разрушения, наступает царство разума, мир инженерии
На экране проплывают цифры - 1945... 1955... 1960... на проволоке висит труп солдата... 1966... иронический лозунг: "Идет время победы". Эвритаун в развалинах, социальное разложение, эпидемии - врач требует йод, сестра отвечает, что он кончился. Режиссер показывает состояние человечества, о котором Уэллс сам написал еще в "Войне в воздухе": "И когда технические ресурсы цивилизации истощились окончательно, очистив наконец небо от воздушных кораблей, победу на земле торжествовали анархия, голод и мор. От великих наций и империй остались лишь одни названия. Кругом были руины, непогребенные мертвецы и истощенные, желтые, охваченные смертельной усталостью уцелевшие. В отдельных районах истерзанной страны правили или разбойники, или комитеты безопасности, или отряды партизан... Это было настоящее крушение всего. Налаженная жизнь и благоденствие земного шара лопнули, как мыльный пузырь. За пять коротких лет мир был отброшен так далеко назад, что теперь его отгораживала от недавнего прошлого пропасть, не менее глубокая, чем та, что отделяла Римскую империю эпохи Антонинов от Европы девятого века"*.
*(Уэллс Г. Война в воздухе. - Собр. соч. в 15-ти т., т. 4, М., "Правда", 1964, с. 267- 268.)
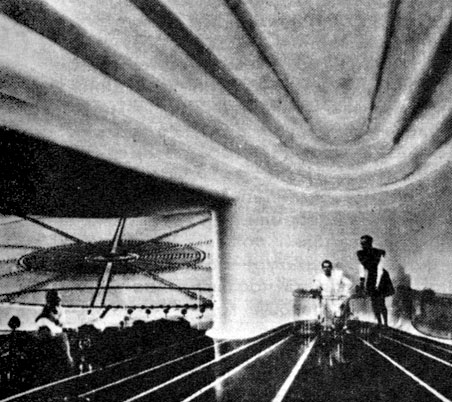
'Облик грядущего'
1970 год - крайняя степень деградации определяется одной деталью: автомобиль, в который впряжены лошади (вот откуда возникнут через двадцать пять лет в фильме Стэнли Креймера "На берегу" штрихи к портрету обреченной Австралии). И появляется диктатор в меховой шубе и военных бриджах, который требует восстановить хоть один самолет, чтобы начать новую войну и добиться окончательной победы. Этому безумному милитаризму военных противопоставлен технический гуманизм инженеров. Прилетают откуда-то с другого материка огромные, похожие на трамваи самолеты, на открытых платформах которых рядами стоят инженеры в комбинезонах и авиационных шлемах. Им предстоит переустроить мир на новых разумных началах.
Диктатор символически кончает самоубийством - "с ним умер целый мир ненависти и сумасшествия", и начинается строительство новой разумной жизни. Последняя часть фильма - разгул фантазии дизайнеров Корда (он был продюсер фильма): стратостаты, электростанции, обтекаемые поезда, люди в скафандрах - все автоматизировано, конвейеризировано. Но весь этот фантастический антураж, может быть, в силу своей идилличности, не производит такого драматического впечатления, как в "Метрополисе", где сама декорация запечатлела расколотую на две половины жизнь.
Там - образ, здесь - выставка достижений.
И все-таки Уэллс избежал соблазна кончить утопию на идиллической ноте. В финале картины мы снова видим толпы взбешенных людей, бегущих к межпланетной ракете, чтобы уничтожить ее. Их предводитель-художник кричит: "Мы не хотим прогресса, мы хотим паузы счастья, нам надоело бесконечно работать, мы не хотим новых жертв. Нам не нужны звезды!" Но призыву остановить прогресс противостоит решение Джона Кабала и двух молодых людей, улетающих на Луну.
"Когда остановится человек! Только в смерти, - говорит автор устами своего героя. - Он должен идти вперед!" И этот вывод Уэллса подхвачен в ряде произведений фантастики, оканчивающихся той же беспокойной нотой поиска, вечного стремления вперед.
Фильм Уэллса и Камерона Мензиса оказался, пожалуй, последней киноутопией западного кино, пронизанной верой в технический прогресс, в науку, в ее способность создать разумное и счастливое общество. Но самому Уэллсу еще долгие годы предстояло оставаться центральной фигурой социальной кинофантастики, вдохновляющей ее темы и концепции. Помимо "Облика грядущего" и "Человека-невидимки" в 30-е годы были экранизированы: "Остров доктора Моро" ("Остров потерянных душ", 1932, режиссер Эрл Кентон), "Человек, который мог творить чудеса" (1935, режиссер Лотар Мендес). Об экранизации Уэллса в 50 - 60-е годы мы уже говорили.
Однако пока Голливуд привычно ставил романы Уэллса сорока-и тридцатилетней давности, в литературе появились произведения, которым суждено было оказать чрезвычайное влияние на развитие научной фантастики, а в 60-е годы - и на кинематограф этого жанра.
* * *
Три книги почти неизменно открывают все списки романов- антиутопий XX века. "Мы" Евгения Замятина, "Прекрасный новый мир" Олдоса Хаксли и "1984" Джорджа Оруэлла. Эти произведения создавались в разное время. "Мы", по свидетельству самого Замятина, - в 1920 году, "Прекрасный новый мир" - в 1932-м, а "1984" - в 1948-м (отсюда перемещенные две последние цифры в заголовке). Судя по всему, разные творческие и социальные импульсы легли в их основу. Но их закономерно упоминают вместе во многих работах, посвященных антиутопии, поскольку в своем представлении о будущем авторы их исходят из одинаковой социальной модели тоталитарного государства, в котором жизнь и личность отдельного человека не представляют никакой ценности.
Как отмечается в "Философской энциклопедии", во всех этих романах "получили выражение не только враждебность к социализму, но и смятение перед лицом грядущих социальных последствий научно-технического прогресса, стремление отстоять буржуазный индивидуализм от наступающей рационализированной технократической цивилизации. Одновременно в такого рода антиутопиях проявляется законная тревога за судьбу личности в так называемом "массовом обществе", протест против манипулирования сознанием и поведением личности в условиях государственно-монополистического капитализма"*.
*(Философская энциклопедия, т. 5, М., 1970, с. 295.)
Страх перед холодным расчисленным миром, в котором наука поставлена на службу буржуазному прагматизму и своекорыстию, перед математизацией мысли, отделяющей научную истину от нравственной, охватывает не только художников Запада, но и ученых. Один из крупнейших физиков XX века Макс Борн в начале 60-х годов скажет: "Хотя я влюблен в науку, меня не покидает чувство, что ход развития естественных наук настолько противостоит всей истории и традициям человечества, что наша цивилизация просто не в состоянии сжиться с этим процессом"*. "Традиционная этика исчезла под воздействием техники"**. Эта проблема будет мучить всю социальную фантастику 50 - 60-х годов.
*(Борн М. Моя жизнь и взгляды. М., "Прогресс", 1973, с. 45.)
**(Там же, с. 40.)
Многие мотивы и ситуации, ведущие свое начало от Замятина, Хаксли и Оруэлла перешли в литературную фантастику 50 - 60-х годов. Они явны у Бредбери в "451° по Фаренгейту", у Буля в "Планете обезьян", у Воннегута в "Утопии 14", у Азимова в "Конце вечности". Но есть и принципиальная разница. Во-первых, смысл их предостережений недвусмысленно направлен против технократических тоталитарных тенденций современного империализма. И во-вторых, их авторы, рисуя самые мрачные картины будущего, указывают на возможность выхода или по крайней мере на некие силы, способные противостоять злу.
Этот мотив надежды существен в "Альфавиле" - одном из примечательных произведений кинофантастики 60-х годов - и несомненно испытавшим на себе влияние литературных антиутопий.
* * *
"Было 23 часа 17 минут, когда я прибыл в предместье Альфавиля. Случается, что реальность оказывается слишком сложной для нормального восприятия и тогда принимает форму легенды, позволяющей ей странствовать по всему миру". Это первая фраза, открывающая фильм. И во многом объясняющая его.
Слишком сложная, запутанная для нормального восприятия реальность побуждает создавать легенды-модели будущего, странствующие по миру в форме антиутопий. Режиссер и предлагает зрителю еще один вариант этой странствующей легенды на экране. Но режиссер этот - Жан-Люк Годар, поставивший к 1965 году ряд своих наиболее известных картин. И поэтому остается пока невыясненным самый главный вопрос: что в фильме от знакомой легенды, от расхожих пророчеств философов и писателей. А что от самого Годара, от его представлений, от его видения.
От легенды - сам Альфавиль - город, управляемый электронным мозгом; город, живущий по законам холодной научной и обесчеловеченной логики: формула Эйнштейна Е = МС2, вспыхивающая холодным неоновым светом, улица Энрико Ферми, улица Радиации, ученый со зловещим именем фон Браун, стоящий на верху иерархической лестницы. Город, где нет любви, а лишь удовольствия, не видно девушек, а лишь "соблазнительницы установленной категории", где эмоции и воля человека подавляются совершенными математическими методами, где естественный мир природы и чувств уничтожен.
Характерно, что в середине 30-х годов финал фильма по Уэллсу "Облик грядущего" воспринимался как гимн техническому прогрессу, человеческому разуму, да так и был задуман авторами. В 1970 году Рене Предаль в своей книге "Фантастическое кино" пишет: "Мир, обрисованный в этом фильме, может заставить нас задрожать от страха, когда мы видим упразднение всякой инициативы и всякой свободы, что в представлении режиссера, видимо, и не является утратой, но какое значение имеет его собственное мнение"*.
*(Рredal R. Le Cinema Fantastique, Paris, 1970, p. 195.)
"Альфавиль" - это город, где живут без солнца, без воздуха, без пространства. Лишь электрический мертвенный свет, коридоры, тоннели, лифты, лестничные переходы. Мотив закрытого, тесного, сдавленного пространства, где люди пластаются по стенам, бьются о стекло, пытаются ворваться в двери, все время повторяется в фильме. И номера на плече, на шее у жителей, и холодная логика вместо чувств. Лишь когда Наташа фон Браун учится у героя словам любви, то в комнату заглядывает солнечный луч.

'Альфавиль'. Детектив Лемми Кошен (Эдди Константин), по мнению Годара, лучше других может решить проблемы будущего
По мнению Прюдаля, "Альфавиль" не столько предвидение будущего, сколько воспоминание о фашизме, - на это указывает фамилия фон Браун, номера, как в концлагерях, и кровавые экзекуции. Очевидно, опыт фашизма был учтен Годаром. Но, несомненно, он был пропущен через восприятие и философию "властителей умов" западной либеральной интеллигенции, пропущен через "легенду" о будущем. Причем, по мнению автора, это будущее ждет все человечество независимо от социального строя. Недаром герой фильма называет себя Иван- Джон и представляет газету "Фигаро-Правда". Так наглядно воплотились мечты некоторых буржуазных теоретиков о конвергенции социализма и капитализма.

'Альфавиль'. Стремительность, мужское обаяние и, конечно, пистолет способны победить зловещего профессора фон Брауна-диктатора Альфавиля и завоевать любовь его дочери Наташи (Анна Карина)
От Хаксли и Оруэлла - устройство центра памяти электронной машины. У жителей Альфавиля нет истории. "Никто не жил в прошлом, никто не будет жить в будущем. Настоящее - форма всей жизни".

'Альфавиль'
В Альфавиле из словарей вычеркиваются слова "совесть", "плакать", "осенний свет", "нежность". Конечно, в этом мотиве, имеющем для фильма важное сюжетное значение, можно без труда узнать "новый язык" из "1984", воспринятый, возможно, уже из рук Маркузе. Наблюдения над языком составляют чрезвычайно важную главу в его определении одномерного человека современного высокоразвитого индустриального общества.
"В языке исчезают живые противоречия, - пишет он, - их заменяют авторитарные (ритуальные, магические) заклинания. Вырабатывается новый синтаксис - "экономность" речи, возникающая из газетных шапок, реклам, лозунгов. Преобладание речевых штампов связано с преобладанием субстантивных фраз. Все части речи отступают перед существительными; теснота расхожих стандартных изречений и оборотов уже почти не оставляет пространства для живой самостоятельной мысли, для выражения противоречий".
"Абсурдные, но привычные и потому опасные словосочетания "чистая бомба", "безопасные атомные осадки", "гармония труда в производстве ракет". Такие сочетания противоположных, изначально несовместимых слов и понятий - только один из способов подавления противоречий и протестующих сил самого языка"*.
*(Marсuse H. Op. cit., p. 89 - 90.)
В Альфавиле также не задают вопросов, не открывают противоречий. Не "почему, а потому что" - несколько раз наставительно поправляет Наташа приезжего из внешних стран. А процесс ее духовного высвобождения выражается в том, что она усваивает новые слова, с трудом разлепляя губы, произносит: "Я вас люблю".
Таким образом, в изображении мира технократической диктатуры, где уничтожены писатели, художники, музыканты, где люди - рабы, а тех, кто не приспособился, ликвидируют. Годар остается лишь иллюстратором расхожих для середины 60-х годов мыслей и "странствующих легенд". "Оригинальный Годар", "Годар как он есть" проявляется лишь в способе решения проблем, стоящих перед героями, и в связанной с этим способом конструкции фильма.
Главную роль тайного агента внешних стран 003 Лемми Кошена играет Эдди Константин - популярный герой многосерийных полицейских фильмов. Актеру не приходится отказываться от привычного образа-маски. Это обычный Эдди Константин с его помятым лицом сыщика, в неизменном макинтоше и с неизменным браунингом в руке. Просто теперь он действует не в парижских трущобах, а в воображаемом Альфавиле, где свои трущобы, наркоманы, наемные убийцы и провалившиеся агенты. Так в фантастику входит комикс. И чуть ли не с третьего кадра в фильме начинаются кровавые потасовки и убийства, в которых Эдди Константин с привычной легкостью уклоняется от ударов, зажимает дверью руку с ножом, окунает противника в ванну, предварительно набросив на его голову простыню, и стреляет, стреляет, стреляет... И не только он. В бездушном унылом мире Альфавиля воображение проявляется в избиениях и убийствах. В лифте четверо мужчин деловито кидают от стены к стене пятого... Во время банкета на кромке бассейна из автоматов строчат по осужденным за проявление человечности, и полуобнаженные девушки топят в воде раненых под аплодисменты гостей.
В чем же смысл этого дразнящего соединения социальной фантастики с комиксом? Может быть, в том, чтобы сделать "легенду" доступной широкому зрителю, снизить философские идеи до уровня потребителя массовой культуры?
Или же стихия комикса помогает Годару сохранить ироническую "дистанцию" по отношению к легенде и нарисованному им же самим миру антиутопий? Отвечает природе его дарования, тяготеющего к самоиронии и мистификации? Через несколько лет Роже Вадим сделает космический комикс "Барбареллу". Но там это будет естественный финал "космической оперы" - агония и итог жанра.
Или же стиль комикса подсказывает и решение всех проблем в духе комикса? В самом деле, если в серьезной социальной фантастике бунтарь-одиночка обречен на поражение, если авторы часто не видят выхода из исторических тупиков, в которые заходит буржуазное общество, то этих проблем нет у Годара и его героя. Электронный мозг он выводит из строя, задав ему неразрешимую задачу, и убивает злодея фон Брауна - вампира столицы Галаксии. Этот выстрел комментируется так: "Я бежал по прямой, напоминающей лабиринт, о котором мне говорил Диксон, в котором заблудилось столько философов, что не удивительно, что в нем заблудится тайный агент".
Итак, лабиринт, в котором блуждают философы, не находя выхода, - в сущности есть прямая, когда ты пускаешь в ход насилие. Этот вывод и этот выстрел очень хорошо согласуются с левым экстремизмом Годара и мотивирован принятой стилистикой фильма.
И еще одно соображение: Годар делал свой фильм в 1964 году, через год после убийства Кеннеди, когда сама действительность продемонстрировала "смешение стилей", - комикс ворвался в серьезную политику, в исторические расчеты, и персонаж с пистолетом или снайперской винтовкой завоевал законное место в угрожающем будущем.
Таков, должно быть, комплекс причин, определивший странный, "смешанный" стиль фильма Годара.
* * *
Через год после "Альфавиля", в 1966 году, на экран вышел фильм Франсуа Трюффо "451° по Фаренгейту". Последовательность не означала преемственности. Ревниво следящий за фильмами своего коллеги, Трюффо более всего опасался повторения, напряженно искал свой путь. Тем более что право на экранизацию "Фаренгейта" он купил за три года до "Альфавиля".
Что же привлекло Трюффо, с его склонностью к документальной точности, к фантасту Бредбери? Сам режиссер обычно редко и неохотно говорит о смысле своих картин, ощущая недостаточность формулировок по сравнению с живой тканью фильма. Но как раз по отношению к "Фаренгейту" он высказался подробно и даже вел дневник съемок фильма, - к тексту этого дневника мы еще будем неоднократно возвращаться.
Рей Бредбери - один из крупнейших писателей-фантастов нашего времени - как-то заметил, что "фантастика - это окружающая нас реальность, доведенная до абсурда". В это определение полностью укладывается его собственный роман. Устами одного из своих героев, брандмейстера Битти, писатель рисует зловещую картину "массового общества", естественным результатом развития которого стало запрещение и сожжение книг.
"...Двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!.. Как можно больше спорта, игр, увеселений - пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать... слово "интеллектуальный" стало бранным словом, каким ему и надлежит быть"*. Плавно, незаметно переходя со ступени на ступень, доводит Бредбери действительность сегодняшнего дня до завтрашнего абсурда. "Вспомните-ка, в школе, в одном классе с вами, был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш?.. И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми... Вот! А книга - это заряженное ружье в доме у соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум"**. Гибель духовной культуры запрограммирована в установлениях, темпах и целях нашей цивилизации, утверждает Бредбери.
*(Бpeдбepи P. 451° по Фаренгейту. M., "Мир", 1964, с. 62 - 66.)
**(Там же, с. 66.)
Естественно, что этот мрачный прогноз появился прежде всего в США, здесь раньше, чем где-либо еще, сложились черты "массового общества". Но симптомы болезни вскоре стали очевидны и в Европе, и тревога Бредбери оказалась близкой и понятной Трюффо. "История Бредбери заинтересовала меня тем, что в ней есть реального; костры из книг, преследования мысли, террор идей - явления, не раз повторявшиеся в истории человечества. Вчера они проявлялись жестоко и открыто. Сегодня они принимают более скрытые, мирные, но тем более опасные формы"*. И еще: "Пластинки, магнитофоны, кино, телевидение, транзисторы, приемники... мы смотрим, слушаем. Эти действия заставляют все время быть "во вне", не дают углубиться в себя, сосредоточиться, поразмыслить. Они лишают нас одиночества, которое неразрывно связано с чтением. Люди покупают книги, но не читают их. Даже самые образованные интеллектуалы вдруг возвращаются к традиции устной передачи: книг не читают, а говорят о них на основе того, что сказал кто-то, тоже, вероятно, не читавший, а наслышавшийся со стороны. В нашем обществе книг больше не жгут по приказу Гитлера или святой инквизиции. Их делают бесполезными, их удушают изображениями, звуками, предметами".
*(Truffaut Franqois. Journal of Fahrenheit 451, "Cahiers du Cin6ma" in English, numbers 5, 6 and 7 (1967), 1968, № 6. (Все дальнейшие цитаты из дневника фильма приведены по данному изданию).)
Свой фильм Трюффо начинает с образа этой, чуждой ему цивилизации, ее главных составляющих. Камера долго идет по крышам домов, запечатлевая лес телевизионных антенн, а потом по шесту, как в ранних чаплиновских фильмах, соскальзывают пожарные и в черных, как деготь, смоляных костюмах стоят шеренгами по бортам мчащейся, воющей пожарной машины - эпоха массовых коммуникаций, эпоха преследования мысли.
Эти две темы идут через всю картину. Телевизионная комната, где на стенах-экранах кривляются, орут "родственники" и ведущий программу прямо по имени обращается к каждой зрительнице (новинка техники), задавая вопрос именно ей и требуя механического "да" или "нет". И сначала растерянно запинаясь, а затем радостно Линда - жена героя - лепечет свои ответы и получает в награду поощрительный комплимент: "Ты фантастична, Линда". Агрессию средств массовой коммуникации, принуждающих человека раствориться в зрелище, подчинение воли, воспитание автоматизма при видимости сотворчества раскрывает Трюффо в этом эпизоде. Режиссер еще раз опосредованно вернется к системе: человек - техническая цивилизация будущего, когда опоенная, одурманенная передачами Линда примет флакон снотворных таблеток. Приезжают санитары, и машина-кобра, чавкая, отсасывает "темноту, яд, скопившиеся за многие годы", а вторая машина "откачивает кровь, заменяя ее свежей кровью и свежей плазмой". Сам язык Бредбери в этой сцене указывает на ее символический характер. Такова она и для Трюффо - перед нами ритуал подмены человека, не только мысли, но и плоть его уже чужая.
А от пожарной команды Бредбери идет к зловещей черно- красной тумбе с мигающим фонарем, куда опускают доносы о спрятанных книгах. К обыскам на улицах (книгу вынимают из коляски младенца, брандмейстер грозит ему пальцем), к школьникам, одетым в одинаковые серые мундирчики, к школьной вешалке, на которой висят, как пустые коконы, одинаковые серые пальто, и, наконец, к кострам из книг.
Сцены сожжения книг - кульминация фильма, ключевые для понимания его идей и стиля. Приступая к "Фаренгейту", Трюффо записал: "Я люблю снимать такие сцены, как сожжение старой дамы вместе с книгами или сожжение Монтегом Капитана...
Но мое воображение, слишком привязанное к реальности, не может их изобрести... ко мне на помощь приходит Рей Бредбери, предлагая те самые крайние ситуации, которые мне необходимы, чтобы избежать привычного документализма, слишком большой зависимости от реальности, закрепощающей воображение". С другой стороны, он замечает, что "характеры героев недостаточно реальны и недостаточно сильны из-за исключительности исходной ситуации... И я обязан бороться с этим, пытаясь придать действию на экране большую жизненность". В противоречии между стремлением к фантазии и тяготением к реальности определялся стиль будущего фильма.
Ощущая недостаточность характеров, их схематизм, как правило, свойственные фантастике вообще, Трюффо искал опоры для своего документализма в обстановке, среде действия, его атмосфере, заставлял играть вещи. Героями фильма вместе с людьми, а может быть, прежде, чем люди, стали книги. Костры из книг - образ гибели культуры... Он волновал Трюффо давно, еще со времени "Жюля и Джима". Но там костры из книг, запечатленные нацистской хроникой, врывались в игровой фильм как символы и координаты времени. Здесь они становятся образом, в котором реализуется тема произведения.
Пожар тайной библиотеки, вместе с которой сгорает старая дама, снят как космическая трагедия, как гибель человеческой культуры. Причем старая дама выступает в качестве протагониста действия лишь до тех пор, пока не чиркает спичкой, зажигая пожар. С этой секунды принятого и осуществленного решения она уже не интересует режиссера. Есть трагедия гибели книг. Как писал Трюффо, "...только сегодня я заметил, что в этом фильме нельзя ронять книги за пределы кадра. Я должен прослеживать их падение до самой земли. Здесь книги как живые герои, и прерывать их падение - все равно, что срезать рамкой голову актера".
Пожар - серия смертей, увиденных, горестно прослеженных - от момента, когда книга, еще не тронутая, прекрасная, живая, лежит, привлекая своим заголовком: Эсхил - "Трагедии", Достоевский - "Преступление и наказание", Толстой, Дали, Сартр; и вот край листа начинает темнеть, коробиться, сворачиваться от жара трубкой и вдруг вспыхивает ярким языком пламени, оставляя после себя кучку пепла. Камера оплакивает смерть книг как невозвратимые потери. В шкале ценностей Бредбери и особенно Трюффо книги занимают равноправное с людьми место. Не случайно в финале фильма мы встречаемся с людьми-книгами. Они добровольно стали "Государством" Платона или "Размышлениями" Марка Аврелия, "Откровением Иоанна Богослова" или "Критикой чистого разума" Канта, они растворились в этих сгустках культуры, понимая, что их собственная жизнь обретает смысл в сохранении великих творений.
В сценах пожара режиссер дает волю чувствам: страдает, волнуется, плачет. И он как будто нарочито сдержан, изображая своих героев. Художник, всегда обращавшийся к мелодраматическим сюжетам, он более всего боится мелодрамы как способа выражения, как отношения и тона. Страх "впасть в мелодраму" не покидает его и на страницах дневников съемок. Отсюда поиски героев "от противного". "Капитан (брандмейстер Битти в романе. - Ю. X.) будет ужасно симпатичным, и это прекрасно... Мы все более удаляемся от мелодрамы, а сама роль становится более живой и человечной". Нет никакого романа Монтега со встретившейся на его пути девушкой Клариссой. "Во всяком случае, я сделал Клариссу бесполой, чтобы не впутывать ни ее, ни Монтега в обычную историю супружеской измены, которая достаточно популярна и без научной фантастики. Кларисса просто маленькая девушка, рассудочная и вопрошающая". Еще более рассудочен Оскар Вернер, исполняющий главную роль Монтега. Режиссерское задание совпало здесь с природой актера - холодноватого и рационального. Джулия Кристи, исполняющая в фильме две роли - Клариссы и жены Монтега Линды, - значительно интереснее своего партнера. Актриса не боится сходства героинь и почти не меняет грима. Разница во взгляде - безучастном у Линды и живом, полном любопытства у Клариссы. Разница и в способе съемки. "В роли Линды, - писал Трюффо, - я буду снимать ее главным образом в профиль, оставляя фас для роли Клариссы. Ее профиль как раз очень красив, в духе рисунков Кокто: выдающаяся верхняя губа, огромный широкий вампиристый рот...". Человек-профиль, двухмерный, плоский. И человек-фас, распахнутый навстречу жизни, ее вопросам и загадкам.
И все же во всех исполнителях этого фильма ощущается некоторая душевная замороженность, некая отстраненность от своих героев. Резкая цветовая гамма фильма, в которой начисто отсутствует нежная умиротворяющая пастель, а господствуют напряженные контрасты кроваво-красного, огненного, и черного, смоляного, не согласуется с таким стилем актерского исполнения, с холодноватым, "извне" режиссерским подходом. Кое-что здесь объясняется характером дарования самого Трюффо, его эстетикой художника постчеховского периода, бегущего открытых мелодраматических страстей, сентимента и банальности. Но дело не только в этом.
Картина поражает странностью своего интерьера, в котором соседствуют монорельсовая дорога и допотопные телефоны, автоматические двери и старый бретонский кофейный сервиз. Можно понять это как желание создать некое вневременное пространство, как намек на то, что опасности, обозначенные фильмом, существуют и существовали во все времена. Можно, наоборот, воспринять эти контрасты как особую характеристику времени, в которой произошел болезненный разлом, что-то в технике ушло вперед, а что-то вернулось вспять или осталось на месте.
Но глубинный смысл этого решения выясняется только в сопоставлении с общими принципами подхода Трюффо к фантастике и того, как эти принципы развивались.
Приступая к съемкам, Трюффо записал: "Три года назад "Фаренгейт" представлялся научно-популярным фильмом, в котором должны были найти место различные находки и шутки и т. д. С тех пор появились Джеймс Бонд, поп-арт и Годар, черт побери!"

'451º по Фаренгейту'. В жутком будущем, показанном Бредбери и Трюффо, пожарные жгут книгим, а разучившиеся читать люди проводят все время у телевизора
Какие дороги к научно-популярному фильму с находками и шутками закрыли Джеймс Бонд и Годар? Джеймс Бонд - это постановочные с разгулом технической фантазии и политически тенденциозные картины. Это циничный супермен, любыми средствами добивающийся успеха. Годар в "Альфавиле" и "Предвидении" - это попытка заглянуть в будущее, создать его визуальный и психологический образ.

'451º по Фаренгейту'
Трюффо, более всего опасающийся повторений, идет иным путем. Через полтора месяца после начала съемок он пишет: "По правде говоря, фильм "451° по Фаренгейту" разочарует любителей фантастики. Это - научно-популярная картина в манере "Шербурских зонтиков". Взамен принципа - нормальная история, где поют, вместо того чтобы говорить, - перед нами нормальная история, в которой запрещено читать". Итак, нормальная история, ничего фантастического. Вспомним принцип Бредбери: "Фантастика - реальность, доведенная до абсурда". Реальность схвачена, но что же с абсурдом? И здесь многозначительное добавление Трюффо к вышеприведенной записи: "Это просто, как сказать "здравствуйте", но разве "здравствуйте" так уж просто?" И в другом месте: "В данном случае дело было в том, чтобы рассказать фантастическую историю обыденно, делая банальными слишком странные эпизоды и анормальными эпизоды бытовые". Какая-то непонятная, извращенная логика. Казалось бы, зачем странные эпизоды сводить к банальности и делать анормальными бытовые эпизоды. И это не только слова. Парадоксальные сочетания разных эпох в интерьере - осознанный принцип: "Мне хочется взглянуть со стороны, как это имело место с "Жюлем и Джимом", который был сделан как исторический фильм, чтобы избежать опасности впасть в мелодраму. Разумеется, превращать "Фаренгейт" в исторический фильм - дело рискованное, и тем не менее я склоняюсь понемногу к такому решению. Я беру телефоны с рожками эпохи Гриффита, платья Кэрол Ломбард и Деби Рейнолдс, пожарную машину мистера Дидса. Мне хочется сделать "антидайджест"... Короче говоря, я работаю шиворот-навыворот, словно речь идет о съемках картины "Джеймс Бонд в средние века".

'451º по Фаренгейту'. Монтег-Оскар Вернер. Брандмейстер Битти-Сирил Кьюсак
В этом признании - ключевые слова "антидайджест" и "шиворот-навыворот". Трюффо не хочет делать "легкую", "механически усвояемую картину", он все время ставит зрителя перед загадочными парадоксами, странностями, которые заставляют действовать его мысль. И он работает "шиворот-навыворот", нарушает нормальную логику, чтобы острее показать волнующие его вещи. Если употреблять брехтовский термин, то Трюффо прибегает к "очуждению" действительности в жанре фантастического фильма. Для него это формула примирения его документализма, привязанности к реализму и крайних, невероятных ситуаций Бредбери. Он берет составляющие реальной действительности, чтобы показать их зрителю в необычном фантастическом сочетании, в абсурде. А абсурд выводит из реалий. Это есть фильм-гипотеза, в которой автор смотрит со стороны, "ничего не навязывая зрителю, не очень заставляя его верить в события". И гипотеза, проникнутая печалью, - в финале под густым, все засыпающим святочным снегом ходят люди-книги, повторяя свои тексты и исчезая в снежной пелене.

'451º по Фаренгейту'. Джулия Кристи в двух ролях-Линды и Клариссы
Применение Трюффо принципа остранения к фантастике имело значение не только для него самого. Как оказалось, за ним было будущее, на этом эстетическом принципе строится такая картина, как "Заводной апельсин" Стэнли Кубрика.
От категорических утверждений, быстро опровергаемых стремительными темпами научно-технической революции, кино начинает переходить к гипотезам, в которые, может быть, не следует до конца верить, но которые стоит внимательно рассмотреть.
* * *
Если в литературе антиутопия весьма быстро обрела каноническую форму в сочетании авантюрного и философского романа, то в кино она все время заимствовала чужие структуры, гибко приспосабливалась к требованиям различных жанров. Детектив из сериалов в "Альфавиле", некая сложная смесь мелодрамы, фильма ужасов и социального романа в "Метро- полисе", киноповесть в "451° по Фаренгейту". "Вползание" в канонические киноформы иногда проходило без особых потерь для литературного первоисточника, как это случилось в "Фаренгейте", иногда же заимствование готовых киноформ сопровождалось серьезными метаморфозами произведения, положенного в основу фильма.
Картину "Планета обезьян" режиссер Шаффнер сделал в излюбленном Голливудом жанре "космической оперы". Крушение ракеты посреди озера при посадке на планету Сорора. Три члена экипажа с трудом выбираются на землю, четвертая - женщина - "не попала" под действие закона относительности, и глазам зрителя предстает ее истлевший скелет с копной длинных волос. Один из героев водружает на планете американский флаг под иронические возгласы товарищей. Затем путешествие по скалистой пустыне, величественной в своей дикой перво- зданности. И когда силы на исходе - встреча с людьми.
Но люди на этой планете оказываются дикими, лишенными разума, и ведут себя как обезьяны. А обезьяны, наоборот, - разумными, живущими по законам человеческого общества. Эта "перевернутая" парадоксальная ситуация - общая в романе Пьера Буля и поставленном по нему фильме. Кстати, обезьяньи маски сделаны настолько виртуозно, а ситуация доказана столь логично, что через некоторое время действительно начинаешь воспринимать обезьян как людей, а людей как обезьян. Но дальше между романом и фильмом начинаются существенные расхождения.
Пьер Буль - автор романа "Мост через реку Квай" и ряда других известных книг - написал "Планету обезьян" в свифтовской традиции. Это сатира на буржуазное "массовое общество" "с его стандартизацией желаний" не только производства, но и вкусов", духовной убогостью и обезличенностью. На планете обезьян жители делятся на три категории: гориллы, которые "дают общие указания" и командуют прочими обезьянами. Орангутанги, представляющие официальную науку, искусство и литературу и готовые "с пеной у рта отстаивать любое традиционное старье". И шимпанзе - интеллигенция планеты. Воспоминания героя о Земле, о ее литературе, промышленности, юриспруденции приводят его к мысли, что все эти институты вполне могли бы функционировать в царстве обезьян. А обезьянья биржа, где "все походили друг на друга и ни в ком даже не было проблеска мысли. Все были одинаково одеты, и на всех мордах застыла та же маска сумасшествия"*, властно заставляет героя вспомнить родную планету. "Никто больше не читает: даже детективные романчики кажутся произведениями, требующими слишком большого духовного напряжения". "Мыслительная лень" все больше завладевала людьми, они деградировали, а в обезьянах пробуждался разум, и в один прекрасный день хозяева и слуги поменялись местами: врачи заняли место подопытных животных, дрессировщики стали делать сальто в обезьяньем цирке. Все произошло в результате естественной эволюции человеческого общества.
*(Буль Л. Планета обезьян. Библиотека современной фантастики, т. 13. М., "Мол. гвардия", 1967, с. 157.)
Ироничность и парадоксальность французского романа сменилась серьезностью и дидактичностью американского фильма. Дело не только в различии национального темперамента, но в разном адресе произведений. Интеллектуальный роман переведен в кинопроизведение сферы "массовой культуры". Фильм стихийно ищет ходы менее оригинальные, но более эффектные, легче адаптирующиеся к традиционным формам кинозрелища. Все как в фильмах Джорджа Пала по Уэллсу.

'Планета обезьян' и ее продолжения. В романе Буля и фильме Шаффнера поменялись местами. Обезьяны унаследовали все качества мещанской психологии: консерватизм мышления, жестокость, презрение к другим-непохожим, а значит, низшим существам
Крушение, путешествие через пустыню, плен у дикарей и, наконец, облава. В романе героя не покидает странное ощущение раздвоенности. Он добыча, затравленная, охваченная ужасом, которую преследуют загонщики и охотники гориллы. И одновременно он как бы наблюдает все со стороны, дивясь и усмехаясь тому, как похожа эта охота на земное сафари, со всеми традициями моды и неосознанной безжалостностью. В фильме облава - это только жуткая сцена травли и бойни, где одетые в рыцарские колеты обезьяны преследуют голых людей, убивают, сажают в клетки, обращаясь, как с животными. Здесь уже проглядывает та тема, которая, судя по всему, была побудительной для Шаффнера, когда он взялся за постановку фильма. Его волнует проблема расового угнетения, человеконенавистничества, нетерпимости. Бесспорно, эта тема была более жгуча для раздираемой расовыми волнениями Америки конца 60-х годов да остается таковой и сейчас, но в романе Буля она имеет подчиненное значение. Шаффнер показывает людей в клетках, травлю "чужака", случайно попавшего в обезьяний город, опыты над людьми. И опять-таки в романе профессор Антель добровольно и стихийно предпочитает удобную клетку, мягкую соломенную подстилку, подачки добрых обезьян и бессловесную подругу треволнениям ученого. В фильме он становится идиотом, так как ему сделана операция на мозге. Иначе говоря, в книге голый дикий человек сам виновен в своем бесправном угнетенном положении. В фильме он жертва расистов-обезьян.
Публицистика в фильме Шаффнера соединяется с коммерцией. И тогда - погоня за героем, скачки на лошадях и перестрелка в духе вестерна. Старый орангутанг, который оказывается не тупым, а наоборот, дальновидным, не желая признавать разум в человеке, говорит: я знал, что люди обладают разумом, но вы жадные существа, все обращающие в пустыню. И наконец, путешествие героя в запретную зону, где на песчаном пляже он видит странное заржавленное сооружение, узнает сброшенную с пьедестала, наполовину ампутированную статую Свободы и понимает страшную истину: в результате космического путешествия через две тысячи лет он попал обратно на Землю, пережившую атомную катастрофу и гибель человеческой цивилизации...
"Планета обезьян" дала начало целой серии картин, в которой были использованы маски и декорации первого фильма.
В следующей серии, "По ту сторону планеты обезьян", герой, освободившийся из неволи, вместе со своей еще полудикой невестой Новой на одном коне, подобно героям вестерна, скачут по берегу океана и в конце концов попадают к людям. Оказывается, на планете сохранились остатки человеческой цивилизации. Полуразрушенным тоннелем нью-йоркской подземки герои выходят к массивному зданию фондовой биржи, к уцелевшим людям. Это странное племя, которое поклоняется атомной бомбе, выставленной в центре огромного зала, и обладает способностью к телепатии. (Характерно, как массовое искусство, современный кинобульвар использует расхожие идеи фантастики, сенсационные проблемы науки, политической жизни и быта.)
Последние люди, одетые в белые капюшоны, оказывается, могут воздействовать на мозг своих противников, вызывая в них агрессивные инстинкты, и тогда Хестон-Тейлор начинает душить свою возлюбленную Иову. Один из самых страшных кадров фильма, когда люди снимают капюшоны, снимают человеческие лица - они оказываются масками, а под ними - обезображенные, покрытые язвами, лишенные кожи черепа мутантов, поколения которых подвергались радиоактивному воздействию, - еще одна муссируемая в фантастике идея реализуется на экране.
В сущности, все обезьянье государство сделано в духе фельетона, комический эффект которого в том, что аксессуары человеческой жизни перенесены на обезьян. Если у Пьера Буля обезьяны - это люди, доведенные до обезьяньего состояния, то в фильме обезьяны смешны просто тем, что они занимаются привычными людскими делами. Обезьяны парятся в бане, две обезьяны-женщины спорят, как лучше выкармливать младенцев - искусственным молоком или грудью. Воинственная горилла на митинге призывает начать борьбу за жизненное пространство, обезьяны-хиппи выходят с лозунгами "лучше любовь, чем война", обезьяны-солдаты учатся приемам штыкового боя. Сценарист Пол Ден и режиссер Тед Пост остраняют быт, политику, нравы человеческого общества, перенося их в общество обезьян, однако делают это по большей части без сатирического прицела, просто чтобы позабавить зрителя. Фильм получает видимость злободневности и проблемности и в то же время остается зрелищем и развлечением. Это и есть в основе своей задача фантастики второго эшелона, которая лишь иногда ухватывает настроения и внутренние импульсы массового зрителя.

Заключительная, пятая серия 'Битва за планету обезьян'
Произошло ли это в фильме "По ту сторону планеты обезьян"? Пожалуй, картина осталась просто развлечением. В финале обезьяны уничтожают людей. Бомба взрывается, планета гибнет в атомном взрыве. Но две наиболее симпатичные обезьяны сумели улизнуть в космос, чтобы начать на другой планете новую обезьянью цивилизацию и дать материал для третьей серии - "Бегство с планеты обезьян". А затем четвертую и пятую серии - "Завоевание планеты обезьян" и "Битва за планету обезьян", в которых авторы настолько выдохлись, а зрители устали, что даже фирма "XX век Фокс" поняла: "обезьянья жила" иссякла.
* * *
При всей подчиненности современной экранизации антиутопии кинематографическим канонам - в ней, как и в антиутопии литературной, сохраняются некоторые устойчивые структурные особенности. Прежде всего это активная на всех "этажах" произведения роль прошлого, существующего как некая точка отсчета, постоянный сюжетный мотив и фабульный ход.
Отношение к прошлому - критерий оценки героя. Любимый персонаж Бредбери в "Фаренгейте" Кларисса все время вспоминает и рассказывает про то, что "было очень давно", "тогда все было иначе". "Тогда люди считали, что у всех должно быть чувство ответственности", тогда автомобили ездили со скоростью сорок километров в час или их не было вообще, а люди вечерами не смотрели на экран, не слушали радио, а просто разговаривали.
С другой стороны, злой демон, идеолог антикнижной цивилизации брандмейстер Битти тоже вспоминает о прошлом как о времени, "когда все это началось". Прошлое, как неприятие настоящего и как опора его, делит героев фильма.
В большинстве антиутопий прошлое противоположно настоящему, и потому правители предписывают его забыть или уничтожить, а герои, борясь с существующим порядком вещей, настойчиво ищут его следы. Запрещено изучение истории в государстве Альфавиль и в "Прекрасном новом мире" Хаксли. И важнейший сюжетный мотив "1984" - настойчивые поиски Уинстоном Смитом следов, фрагментов подлинного, неискаженного прошлого. Его беседы со стариком рабочим, который все забыл, его бессознательная тяга к лавке антиквара. В "другом" прошлом он настойчиво ищет опору для борьбы.
Встреча с прошлым, как уже отмечалось, - фабульный ход, внутренняя идея "Взлетной полосы" Маркера. Примечательно, что герой, который среди своих странствий во времени встречается с людьми будущего, отказывается уйти с ними, его властно влечет к себе прошлое: фруктовый сад, домик в зелени, залитый солнцем, голуби, пьющие воду из лужи, смеющееся лицо девушки.
Во всех романах и фильмах, рисующих жуткое будущее, прошлое - представляемое, вспоминаемое или посещаемое - это "милое" прошлое, "солнечное" прошлое, "неторопливое", "безмятежное" и "ласковое". Его трудно точно, датировать - у Бредбери оно расположено где-то там, до социальных потрясений нашего века, у Уэллса отнесено еще дальше - в викторианскую Англию. Точнее сказать, это даже не временной период, а некое эмоциональное состояние, предмет авторской тоски. Это острова покоя, патриархальности, устройство жизни, еще не перемолотое жерновами технического прогресса и современной цивилизации.
Пожалуй, можно сказать, что антиутопия - это одновременно утопия о прошлом. Ее авторы и герои находятся в постоянных "поисках утраченного времени".
Но тот же Маркер сурово отбрасывает утопические иллюзии. Его герой умирает, встретив в прошлом на взлетной полосе Орли самого себя ребенком. Человек не может переиграть свою жизнь и жизнь общества. Прошлое закрыто.
Еще одна постоянная черта структуры антиутопии проявляется в ее герое. Этот герой обычно чужак, как в фильме Кавани "Каннибалы", попадающий в город разгромленной революции и по непониманию или незнанию нарушающий приказы властителя. Или это даже инопланетянин Меру, попадающий на Сорору и отстаивающий право быть мыслящим человеком в царстве обезьян. Либо это опять-таки чужак Лемми Кошен в "Альфавиле", защищающий естественные человеческие чувства с пистолетом в руках.
Другая категория героев - люди, как бы просыпающиеся от спячки, от гипноза и сознающие свою естественную природу, свое призвание. Монтег в "451° по Фаренгейту", Наташа в "Альфавиле". До странности похожими словами описывают авторы их возрождение - когда с трудом разлепляются губы и Наташа с усилием говорит "Я тебя люблю". И читает медленно свои первые печатные строчки Монтег. Пробуждение для них - одновременно восстание.
Какова же социальная и философская природа этого героя, противостоящего мрачному миру антиутопии? Авторы всех произведений определяют его как естественного человека, обладающего нормальными реакциями, потребностями и, главное, отстаивающего плохо или хорошо, успешно или безуспешно свою личность. По сути дела, в постоянном конфликте человека и государства в антиутопии нашел свое выражение страх перед тоталитарными фашистскими тенденциями современного империализма, перед реальностью научно-технической революции на Западе, превращающей человека в деталь системы, в одномерного потребителя "массового общества".
Однако довольно быстро выяснилось, что героям большинства антиутопических фильмов, в сущности, нечего противопоставить технократической, тоталитарной концепции мира, кроме защиты "естественной природы" человека. Картина Трюффо с ее отстаиванием ценностей культуры в этом смысле исключение. А борьба за "естественную природу" человека, не соединенная с социальным идеалом, закономерно должна была свестись к упованию на биологическую сущность индивида, на первобытность, сопротивляющуюся всякой дисциплине, всякому ограничению. Традиционная гуманистическая концепция начала распадаться.
Авторы всех до сих пор рассматриваемых фильмов исходили из убежденности в изначальной доброте человека, душу которого коверкает и стирает индивидуальность тоталитарное общество. Добро и зло распределились на полюсах: личность - общество. Но в 1971 году появился фильм, где привычное соотношение было нарушено, а концепция современного человека радикально пересмотрена. Этот фильм - "Заводной апельсин".
Принципиальная особенность и шаг к последнему пределу отчаяния этой картины состоит в том, что вина за кошмар будущего возлагается не на государства, как в "Альфавиле", - стоит разрушить электронный мозг и убить профессора Брауна, и жители в домах, залитых солнечным светом, вспоминают о человечности и учатся любви. Не на массовые средства коммуникации - стоит научиться читать хорошие книги, и жизнь меняется. Не на вещи трансцендентные. Но на самого человека. На глубинную, сокровенную суть его существа, властно сообщающую ему два мощных импульса - насилие и секс.
...Во весь экран - глаза... два сумасшедших ока с расширенными бешеными зрачками, вывороченными белками смотрят на нас, людей сегодняшнего дня, - смотрят, не мигая, упорно, изучающе. Один глаз подведен, загримирован, другой - не тронут. А 'потом камера отодвигается. Раз - и на экране лицо героя, длинные волосы, воспаленные губы, чаплиновский котелок и кажущийся столь неуместным бокал с молоком в поднятой руке. Два - еще отъезд камеры, и в кадре его товарищи: накрашенные губы, клоунский грим, длинные волосы, черные котелки и белые комбинезоны с гульфиком как рыцарским знаком отличия. Три - и открывается бар "Молочная корова": столы в виде голых женских фигур, как бы делающих "мостик", волосы, покрашенные в разные цвета, и "натуральная" белизна тела - бокалы с молоком и коктейлями располагаются на животе. Молоко течет струйкой из женской груди.
Постепенно, как бы ступенчато, рывками, вводит Стэнли Кубрик в жутковатый мир близкого будущего. От глаз, от сути человека к миру, определенному этими глазами, этой сутью. Ибо в этой картине не человек "совокупность общественных отношений", а мир, общество - производное от сути человека. Сути, которую нельзя изменить, не разрушив саму личность.
И как только мы успеваем осмотреться в этом мире, где, в сущности, нет ничего фантастического, лишь сгущены, заострены черты моды в костюме и декоре, звучит голос героя, повествующего о самом себе: "Так мы сидели и думали, что мы будем делать дальше". Рассказчик как бы отчуждает происходящее, он становится между зрителем и событием, снимая сиюминутность, непосредственность. Это не внутренний монолог, а прошедшее время - "сидели и думали", рассказ об уже случившемся, не совершающееся, но свершенное.
Все кровавое, жуткое увидено как бы сквозь толстое, но абсолютно прозрачное стекло времени. В этом смысле картина Кубрика резко отличается от натуралистической спекулятивности поделок типа "Рожденных неприкаянными", воздействующих чисто физиологически, ударяющих зрителя тошнотворностью бессмысленно жестоких подробностей. Здесь холодная отстраненность, внеучастие, чувство дистанции, даже когда применяются самые крупные планы и короткофокусная оптика.
От "Молочной коровы" начинает свой вечерний променад банда Алекса, и вот уже щегольские тросточки ввинчиваются в живот старика нищего: "терпеть не могу этих самодовольных старых пьяниц" - ногами в лицо, в живот... И хриплые стоны сменяет радостная, безмятежная увертюра Россини к "Сороке- воровке". В кадре гирлянда цветов, порхающие амуры - милый XIX век. Камера, задержавшись на секунду, движется дальше, - оказывается, это потолок театра, пустого, заброшенного, а на сцене другая банда юнцов забавляется с девицей. Они перебрасывают ее из рук в руки, постепенно сдирая одежду; это не удовлетворение похоти, сексуального голода - это сладострастие насилия, они не спешат, они наслаждаются ее беспомощностью. Банда свиньи Вилли! Маскировочные пятнистые комбинезоны парашютистов, нацистские фуражки с кокардой, железные кресты на шее, может быть, только в этих костюмах да в кадрах нацистской хроники, которые пройдут потом перед глазами Алекса в эпизоде промывания мозгов, Кубрик намекает на некоторые генетические связи своих героев с эпохой нацистских концлагерей. Да и то трудно сказать, есть ли здесь для него причинная связь или сходство форм выражения насилия, заимствованная символика.
Две банды лицом к лицу, выхвачены пружинные ножи, вынуты из тростей кинжалы, и под грациозную, идиллическую музыку "Сороки-воровки" начинается драка - по выразительности и жестокости трудно вспомнить равную ей в истории кинематографа. Кубрик показывает ее монтажно, выхватывая отдельные мгновенные фазы. Прыжок навстречу друг другу, бутылка с отбитым дном направлена в лицо; удар головой в живот, разбивая стекла телом, парень вылетает в окно; белые комбинезоны, сплетаясь с пятнистыми, катаются по полу, и над всем этим - чистая, праздничная музыка, контрапунктом усиливающая, остраняющая жуть кровавой схватки. Прием соединения музыки и изображения по контрасту Кубрик применяет на протяжении всего фильма. И это не только ударный аттракцион, но наглядное выражение дуализма и расщепления человеческой личности и культуры. Алекс упивается музыкой Бетховена, и она же провоцирует его сексуальные желания, его жажду крови и насилия.
Поражающая зрителя и критику загадка Алекса, сочетающего в себе тягу к красоте и жажду насилия, была предложена уже Достоевским в исповеди Мити Карамазова: "Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны... Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, - знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы - сердца людей"*. Проблема, таким образом, не рождена сегодняшней действительностью, она лишь усугублена ею. И если Достоевский возлагал надежды на религию, то у Кубрика, как увидим далее, нет этих надежд. Религия беспомощна, а науке и государству он отказывает в праве вмешиваться в поединок добра и зла в душе человека.
*(Достоевский ф. М. Собр. соч., т. 9. М., Госполитиздат, 1958, с. 138-139.)
После эпизода в театре разгоряченные дракой победители мчатся на украденной спортивной машине по узкому проселочному шоссе. Мчатся против движения, заставляя сворачивать встречные машины в кювет. Четыре накрашенные морды в трансе скорости и восторга летят на нас, приближаются, заполняют весь экран... Это будущее стремительно надвигается, обрушивается, и некуда свернуть и убежать. Кубрик как будто бы не обращается впрямую к зрителю с мрачными пророчествами, в фильме нет "рупора идей", но часто, как рефрен, то смотрящий пристально на нас Алекс, то плывущие к нам в воздухе, размахивая тросточками, то мчащиеся на машине, - кажется, сейчас врежутся в зал - юнцы "поколения икс". Метафора столкновения с будущим, его неумолимого приближения реализована наглядно и сильно.
...Путешествие заканчивается в доме писателя - самом страшном эпизоде фильма.
Сначала камера перебрасывается в эту "модерновую" комнату - обитель современного интеллектуала. Огромный письменный стол, светлые стеллажи с книгами, за длинной обтекаемой то ли пишущей, то ли электронной машиной священнодействует писатель - желтый домашний халат, высокий лоб с залысинами, аскетическое лицо олимпийца. А в кресле- раковине, поодаль, его молодая жена в красном платье с книжкой в руках. Умная, налаженная, покойная жизнь духовной элиты и трагически незащищенная, как показывает режиссер. Она разлетается в пыль с трелью дверного звонка, после которого в комнату гогоча вваливается банда Алекса. Опрокидываются стеллажи с книгами, связанный писатель, как ящерица, извивается на полу с биллиардным шаром вместо кляпа во рту, с лейкопластырем, обмотанным вокруг нижней части лица, его бьют ногами в живот, в пах. А Алекс, напевая и пританцовывая, "готовит" его жену. Как художник или повар, разделывающий блюдо, он сначала ножом отрезает лоскутья платья, обнажая грудь, и отступает, чтобы полюбоваться на свою работу, потом разрезает платье на животе и, как кожу, снимает его с женщины, потом, чтобы она не кричала, заклеивает ей рот пластырем, и обнаженное женское тело судорожно, молча извивается в руках его "ассистента", и только после этого начинает раздеваться сам, не забыв пригласить старичка писателя "посмотреть спектакль". И вся эта сцена идет под мечтательную, шаловливую и возвышенную музыку.
Знаменательно, что каждый раз во время очередного похождения Алекс надевает карнавальную маску с длинным носом. Это можно истолковать как предосторожность, чтобы жертвы не могли его потом узнать. Но думается, что карнавальная маска несет более глубокий психологический и символический смысл. Она возникает как выражение раскрепощения, радостной вседозволенности, здесь приобретающей зловещий смысл. Для Алекса, как его играет Малькольм Макдоуэлл, насилие - это праздник высвобождения того зверя, который сидит в нем. Это насилие-танец, избиение-пляска, бешеная езда на автомобиле - опьяняющая радость.

'Заводной апельсин', Стэнли Кубрик. Предводитель молодежной шайки Алекс (Малькольм Макдоуэлл) запивает наркотики молоком
Что же представляет собой Алекс, ставший главным героем статей, рецензий и философских эссе, в бесчисленном количестве появившихся по поводу "Заводного апельсина"? Каковы причины его жестокости?

'Заводной апельсин'
В своем интервью по поводу "Заводного апельсина", отвергая обвинения в том, что его фильм провоцирует насилие, Кубрик замечает: "Нет точных доказательств того, что насилие в кино и телевидении порождает социальное насилие.
Сосредоточиться на этом аспекте проблемы - значит упустить главные причины, которые я мог бы назвать в порядке очередности:
1. Первородный грех: религиозная точка зрения.
2. Несправедливая экономическая эксплуатация: марксистская точка зрения.
3. Эмоциональная и психологическая неполноценность: психо-аналитическая точка зрения.
4. Генетические факторы, базирующиеся на "У" хромосомной теории: биологическая точка зрения.
5. Человек обезьяна-убийца: эволюционаристская точка зрения*.
*(Interview with Stanley Kubrik. - "Sight and Sound", Spring, 1972, p. 63.)

'Заводной апельсин'. Его обычное развлечение
При всей внешней объективности в изложении различных теорий агрессии и насилия Кубрик, как показывает фильм, склоняется к фрейдистской точке зрения. Комментируя картину, он замечает: "Если вы посмотрите на историю не на социальном и моральном уровне, но на психоаналитическом, то вы можете счесть Алекса воплощением "Ид". Он живет внутри всех нас"*. Здесь уже все сказано прямо и в терминах психоализа. И точно иллюстрируя природу эмоций своего героя, Кубрик делает эпизод, непонятный вне фрейдовской символики. Алекс забирается в дом к "кошачьей леди" - пожилой одинокой даме, увлекающейся йогой, кошками и эротическим искусством. Как всегда красноречивый, сгущенный до символа кадр: в центре комнаты в зеленом трико стоит на голове женщина, вокруг - на ковре, на стульях и столах - бесчисленные кошки и огромное скульптурное изображение фаллоса на специальной подставке у двери. Потом он станет орудием убийства. Пока ему отведена роль молчаливого комментатора.
*(Ibid., p. 63.)
Когда Алекс влезает в дом через чердачное окно и начинается его перебранка с хозяйкой, то каждое свое оскорбление он как бы подчеркивает, ударяя кулаком по подставке, и фаллос, как ванька-встанька, раскачивается, поднимаясь и опускаясь по краю кадра, все время участвуя в действии, обнажая его сокровенный смысл.
А потом он становится тем оружием, той фехтовальной рапирой, той мужской защитой, которой Алекс обороняется от взбесившейся фурии, нападающей на него с бронзовой статуэткой Бетховена в руке (Бетховену вообще "повезло" в этом фильме: то он "провокатор" жестоких видений Алекса, то орудие нападения). И, наконец, Алекс поднимает скульптуру над распростертой навзничь на полу "кошачьей леди" и раздавливает, убивает ее тем, что. было для нее богом и врагом. Смертью утверждая власть Мужского.
Любопытно, что всю сцену поединка Алекса с "кошачьей леди" Кубрик снимал сам ручной камерой, то с ее точки зрения, то с его, как поединок мужчины и женщины. Здесь он пользуется короткофокусной оптикой, искажающей иногда почти неуловимо, иногда весьма резко лица и обстановку, придающей всей этой сцене фантасмагорический, ирреальный характер. Но, как почти всякий технический прием, короткофокусная оптика "работает" у Кубрика на идею, и в ее рефренности проглядывает определенный смысл.
Действительность точно деформируется, выворачивается, корчит гримасу всякий раз, прежде чем выплюнуть самое гнусное, что прячется в ее чреве.
Алекс зависит от своего "Ид", подчинен ему. Даже музыка Девятой симфонии Бетховена то рождает в его воображении сцену драки, залитые кровью лица, то представление о любви втроем с двумя девицами, которых он встречает в магазине пластинок. Кубрик решает это видение иронически, даже комедийно. Постельные сцены развертываются в убыстренном темпе, как мультипликация с пропуском кадров, рваными, синкопическими движениями, сам Алекс видится себе воплощением мужской силы.
Как многие фантастические фильмы, картина Кубрика представляет собой философскую притчу, где образы сгущены, доведены до символа. При этом центральный образ Алекса одновременно и символ и живая личность. Кубрик - художник, а не социолог или психоаналитик. Его не столько интересуют корни этого характера, сколько увлекает возможность разнообразно показать "воплощение зла" в его отвратительности и притягательности. Сам режиссер сравнивает Алекса с Ричардом III, указывая на его абсолютную прямоту, своеобразное обаяние и энергию.
Алекс - воплощение зла. Но именно воплощение того, что разлито в жизни и лопается пузырями гнилостного газа в болоте общества. Частица его в полицейском, который во время допроса нажимает пальцами на разбитую переносицу Алекса, - нужно заставить говорить, но и приятно мучить. В опекуне и адвокате Алекса, старом гомосексуалисте и импотенте, заставляющем героя рассказывать подробно все его похождения и сопереживающего им. В тюремной процедуре унижения человека и удовольствии властвовать.
Как и многое в фильме, тюрьма показана Кубриком иронически в ее полной неспособности кого-то исправить, причем утверждает это автор без всякого пафоса - это как бы выносится за скобки: "охраняющие" и "отбывающие" вполне могли бы поменяться местами. Тюрьма вообще наименее изменившийся институт общества в будущем у Кубрика.
Но не в изображении всеобщего универсального зла нерв проблематики фильма. Есть ли сила, способная исправить или хотя бы сдержать Алекса, а, следовательно, зло вообще, и если это возможно, то не будет ли успех достигнут ценой победы над человеком, разрушением его личности - вот главный вопрос картины.
Кубрик последовательно подвергает своего героя испытанию искусством - но самая мощная и прекрасная музыка вызывает у него кровавые видения: под аккорды Девятой симфонии он режет товарищу вены и "занимается" с девочками. Испытанию религией - Алекс в тюрьме читает священное писание, и в воображении его проносятся картины славной потасовки, которую он учинил бы на Голгофе с римскими воинами. Испытанию исправительной системой - но внешняя покорность Алекса не обманывает даже тюремщика. Все тщетно. И тогда начинается центральная сцена фильма: Алекса подвергают "промывке мозгов". Вернее, сам он вызывается на эту операцию по уничтожению агрессивных инстинктов, ведь наградой за успех будет немедленное освобождение.
В фильме Кубрика явственно различима его трехчастная структура: похождения Алекса, потом тюрьма, лечение и, наконец, судьба "излеченного" героя по выходе из тюрьмы. Классическая структура эксперимента.
Поведение объекта в естественных условиях, сам эксперимент и объект после воздействия. И если для непосвященного зрителя наиболее интересна и информационно богата первая, констатирующая часть, то особый интерес на Западе вызвали как раз вторая и третья, рассматриваемые как аргумент в жгучем споре, развернувшемся сегодня среди социологов, философов и перекинувшемся даже на страницы общей прессы. И понять фильм Кубрика, его структуру, сумму идей можно, только учитывая тот духовный климат, ту интеллектуальную ауру, в которой он возник.
Кубрик, конечно, не случайно обратился к роману Антони Берджеса "Заводной апельсин", вышедшему задолго до фильма и не вызвавшему при своем появлении особого интереса. Сегодня его проблематика оказалась необычайно интересной в связи со спором вокруг книги знаменитого психолога, профессора Гарвардского университета Берхаза Фредерика Скиннера "По ту сторону свободы и достоинства". По мнению Скиннера, сегодня западная цивилизация может выжить, только отказавшись от суверенных прав личности, от священных принципов свободы и достоинства, которые есть не более чем фантомы. Ибо, утверждает Скиннер, поведение человека, его желания, стремления, его внутренний мир целиком предопределены внешними обстоятельствами, как и поведение любого биологического организма. И так же, как, меняя эти внешние обстоятельства, можно моделировать поведение любого животного (например, как это сделал сам Скиннер, научить мышей танцевать, а голубей играть в пинг-понг), так же точно можно программировать не только поведение человека, но и его внутренний мир, его эмоции и поступки. Но для того чтобы разработать науку о поведении человека, необходимо отказаться от фетишей священного, неприкосновенного внутреннего мира личности.
Конечно, эта книга с ее программным отказом от гуманистических ценностей является нагляднейшим свидетельством духовного кризиса западной цивилизации. Скандал вокруг нее понятен: впервые идея, рассматриваемая лишь в фантастических романах Замятина, Хаксли и других, как порождение адского умысла диктаторов, безответственной власти, высказана не писателем, а предложена специалистом и подкреплена авторитетом ученого с мировым именем. Из области фантастики она перешла в область суровой практики.
Фильм Кубрика есть как бы реализация и художественная проверка и, забежим вперед, опровержение идей Скиннера. Алекс в специальном шлеме, с датчиками на голове, сидит, плотно привязанный к креслу, веки растащены захватами. И перед ним на экране разворачивается все аналогичное тому, что он делал сам или представлял в сладостных фантазиях. Поначалу его голос рассказывает нам, опять-таки как о прошлом, пережитом, что испытывал он под воздействием демонстрируемой жестокости и секса, что воспринимают его немигающие глаза: одна девочка, потом еще одна девочка, потом кого-то бьют, хорошо бьют. А потом, братья мои, я вдруг почувствовал, что мне не хочется дальше смотреть и даже тошнит от всего этого. Алекс кричит, извивается в кресле, но люди у пульта в белых халатах лишь усиливают воздействие раздражителей, и рука врача беспрерывно капает что-то из пипетки в расширенные зрачки пациента. Они совершенно бесстрастны, эти врачи, проводящие эксперимент над животным по классу "хомо сапиенс". И на какое-то мгновение возникает, должно быть, программированная Кубриком ассоциация с нацистскими врачами в Освенциме, недаром же на экране перед Алексом появляются и документы нацистских зверств.

Фильм Кубрика сатирически показывает буржуазные институты власти, в том числе и тюрьму
Здесь выражено то беспокойство Кубрика движением науки, которое он прямо сформулировал в одном из своих интервью, вспомнив про испытания атомной бомбы, - "пример неосторожности со стороны науки, когда она захвачена соблазнительной проблемой".
Сам эксперимент можно рассматривать как чисто медицинскую процедуру, аналогичную той, которая применяется при лечении пьянства. Препарат, вызывающий тошноту, впрыскивают перед тем, как демонстрируют кадры насилия, вызывая тем самым условный рефлекс отвращения ко всякому агрессивному поступку. Но механизм реакций героя не исчерпывается физиологическим рефлексом. Он расшифровывается в свете фрейдистского понимания культуры и взаимодействия между сознательным и бессознательным в человеке. В реальной жизни видения, мечты Алекса возникают как свободный ответ на музыку Бетховена и другие импульсы человеческой культуры, как протест "Ид" против дисциплины этой культуры. Во время лечения порождения его "Ид" приписываются ему насильственно, извне и вызывают отталкивание как близкая по структуре, но чужеродная ткань, как нападение на его "особость", на его независимое подсознание. Исчезает уникальность его реакций на внешний мир, его сокровенное возвращается ему как предписание, рушатся последние рубежи личности. Из него вынимают сердцевину. И на демонстрации превращенного, освобожденного от агрессивности пациента он целует подошву избившего его лаборанта и под бурные аплодисменты собравшегося общества блюет после неудачной попытки обнять обнаженную соблазняющую его женщину.
Третья и заключительная часть фильма - голгофа "излеченного" Алекса, вернувшегося в общество, которое его выбросило, Эта часть может показаться беднее по своей фактуре, проще по мотивировкам, очевидней, чем предыдущие. И это естественно. Ибо, как положено в фильме-притче, в фильме-эксперименте Алекс повторяет свой маршрут из первой части, встречаясь с родными, товарищами и жертвами. И уже первая сцена - иронический и горький парафраз возвращения блудного сына. Рыхлая старуха в красном платье с разрезом и высоких красных сапогах - мать, лысый мужчина в новом ярко- желтом галстуке - его отец. Они больше испуганы, чем рады, увидев блудного сына, стоящего перед ними, прижавшего к груди узелок с пожитками. Его вещи исчезли, в его комнате живет молодой развязный парень, ставший одновременно приемным сыном и любовником матери. Он отчитывает Алекса. И тот, вспыхнув, поднимает кулак, чтобы разбить наглую морду обидчика, но неудержимый приступ рвоты перегибает его пополам. Как бык в опытах профессора Дельгадо, остановленный во время атаки простым нажатием кнопки, замыкающей реле в его мозгу, Алекс хочет ударить и не может. И он уходит из своего дома.

Министр внутренних дел сам кормит Алекса. Этот сатиричский кадр венчает историю взаимоотношений преступника с государством
Так начинается его крестный путь. Его встречает нищий, над которым он издевался, и целая стая стариков набрасывается на парня, корчащегося в судорогах от этой ненависти, бьет его палками, ногами до тех пор, пока его не отнимают двое полицейских, оказавшихся его бывшими товарищами по банде. И они в свою очередь, зная о беззащитности Алекса, долго с удовольствием мучают его, окуная в корыто с водой, избивая со вкусом, сосредоточенно, умело. Так выясняется, что человек, лишенный агрессивных инстинктов, способности к насилию, не может выжить в этом мире. И если вытравить эти инстинкты довольно сложно, то возбудить их самим зрелищем беззащитности довольно легко. Все его жертвы готовы стать мучителями, подчиненные - господами.
У человека в современном мире, оказывается, лишь одна альтернатива - быть жертвой или палачом. Или ты - или тебя! К такому безнадежному выводу подводит фильм Кубрика. Но и это не единственный вывод.
Самые большие страдания испытывает Алекс не от других, а от самого себя, от своей неспособности делать то, что он хотел бы делать. Он не преображен - ударить, убить, овладеть ему хочется. Он оскоплен. Уничтожена воля к действию. Его муки - это муки евнуха, утерявшего способность к деторождению, муки человека, утерявшего свободу своих действий, превращенного в "Заводной апельсин".
И не случайно месть писателя, к которому он попадает в дом, заключается в том, что Алекса заставляют слушать музыку Бетховена. Ранее она рождала у него сокровенные образы насилия и секса, теперь напоминает о невозможном, возбуждает желание покончить с собой. И Алекс выбрасывается из окна, его глазами увидена стремительно надвигающаяся и раскалывающаяся земля (Кубрик шесть раз бросал из окна работающую камеру, пока она не ударилась в землю объективами). И это еще один аргумент против Скиннера: человек, сведенный до положения робота, не может не ощущать своей утраченной свободы и достоинства, своей неполноценности.
"Я думаю, что главная нравственная идея книги (романа Берджеса. - Ю. X.) ясна, - сказал Кубрик. - Необходимо для человека иметь право выбора между добром и злом. Даже если он выбирает зло. Лишить его этого выбора - значит сделать из него нечто меньшее, чем человека, - заводной апельсин"*.
*(Interview with Stanley Kubrik, op. cit., p. 63. 84 "Sight and Sound", Spring, 1974, p. 77.)
Несомненно, эта формулировка относится и к фильму. Кубрик не предлагает лекарств и путей спасения. Он не доктор, он диагност. Художник пророческого склада и одновременно скептического ума, Кубрик в финале картины показывает, какие политические спекуляции могут развернуться в будущем вокруг скиннеровских идей. Министр внутренних дел выступает в фильме инициатором применения психологических лекарств для лечения социальных болезней. Случай Алекса для него - возможность сделать карьеру. Кубрик, кстати, с негодованием отверг домыслы некоторых критиков, будто изображенное им общество - коммунистическое, заметив, что министр, конечно, тори, а не социалист.
С другой стороны, либералы, выступающие за "человеческие свободы", надеются свалить правительство, если опыт кончится неудачей и Алекс умрет. Поэтому они провоцируют его самоубийство. Личная месть писателя и задачи его партии сливаются воедино. Обоим лагерям наплевать на данного конкретного парня, на человека вообще - важны "тактические интересы и стратегическая линия". И когда Алекс выживает, то министр рад его обратному "выздоровлению", тому, что пациент остался невредим. В финальных кадрах фотоаппараты корреспондентов запечатлевают объятия сияющего министра и Алекса с его наглой ухмылкой. Звучит музыка Бетховена, и герой с удовольствием представляет сексуальную сцену. Выздоровление окончательно - Алекс, как он есть, интегрирован государством, он нужен, он полезен.
Кубрик сам недвусмысленно ответил на вопрос о политическом выводе фильма в одном из интервью: "Отныне правительство использует насилие со стороны отбросов общества для своих собственных целей, союз с Джорджем и Димом ставшими полицейскими, и, разумеется, с Алексом. Финальную сцену следует рассматривать в ее сатирическом контексте. "Я, наконец, выздоровел!" напоминает тут крик доктора Стрейнджлава: "Мой фюрер, я иду!" Когда мы видим, как Алекс, словно ребенок, кормится с ложечки этим обществом - тоталитарным и полностью коррумпированным, - это вызывает сначала смех, а затем представляется отличным символом".
Кубрик один из режиссеров, постоянно возвращающихся к социальной фантастике. "Доктор Стрейнджлав", "Космическая Одиссея", наконец, "Заводной апельсин". При этом два его последних фильма могут показаться сделанными разными авторами, настолько противоположны их пафос, выраженное в них представление о будущем, стиль и тон рассказа. Восхищение силой разума, созидательным гением человека, гордая уверенность в его вечном стремлении к знанию. И безнадежное ощущение неизбывного зла в человеке, неверие в возможность его исправления, роковая альтернатива палача - жертвы в современном мире. При этом вряд ли можно говорить о резком изменении взглядов или идейной беспринципности режиссера.
Каждый раз Кубрик избирает близкое будущее, собственно говоря, то настоящее, в котором некоторые тенденции доведены до своего логического предела. Но что делать, если сами эти тенденции в капиталистическом мире так разнонаправленны. Если одновременно с экспедициями "Аполлонов" происходили "ковровые бомбардировки" Вьетнама и открытие тайн генетического кода рядом с необъяснимым по жестокости и массовости разгулом молодежной преступности. Если невиданные успехи человеческого знания пришли в такое сокрушительное несоответствие с моральным опустошением человека.
Творчество Стэнли Кубрика наглядно и драматично отражает эти противоречия западной цивилизации.
Жизнь не стоит на месте. И идеи также проходят свой цикл развития, отражая эволюцию самого общества. Стэнли Кубрик показывал социальную угрозу, заключенную в Алексе, но еще более угрожающей представлялась ему тенденция "промывки мозгов", программирования человека. Пусть уж лучше Алекс останется таким, как есть, чем станет духовно, психически оскопленным существом, заводным апельсином, как бы говорил художник. Позиция противоречивая, компромиссная, рожденная скептицизмом, неверием в возможность выхода из тупика, в который зашло буржуазное общество. Однако через два года после "Заводного апельсина" появился фильм, в котором компромисс Кубрика преодолевается, правда, своеобразным способом. Автор этого фильма известный режиссер Джон Бурмэн впервые выступает в области фантастики, а картина его называется "Зардоз".
"Зардоз" - одно из самых популярных сегодня произведений западной фантастики, знаменующее новый этап в развитии ее идей и получившее широкий отклик в прессе. Ибо если Кубрик еще боится агрессивности Алекса, видит угрозу обществу в разгуле жестокости, то для Джона Бурмэна в "Зардозе" насилие - движущая сила общества, источник его жизненной силы. Не случайно, конечно, на главную роль 3еда-"истребителя" Бурмэн приглашает Шона О'Коннори, легендарного исполнителя Джеймса Бонда, ставшего в западном кино символом физической полноценности, воли и холодной, рассчитанной жестокости.

'Зардоз'. По мнению Джона Бурмэна, жестокость и насилие естественны для человеческого общества
Начало фильма впечатляюще: из облаков на бесплодную пустынную равнину медленно опускается гигантская каменная голова с искаженным гневом, злобой лицом греческой маски. Во весь опор к ней мчатся всадники с такими же масками на лицах, они хватают оружие - винтовки, револьверы, патроны, которые сыплются из искривленного в зловещей ухмылке рта каменной головы... 2293 год! На опустошенной атомной катастрофой Земле царит новое беспощадное божество Зардоз, требующее от своих последователей покорять и убивать. Общество разделено на касты: в нем есть "грубияны", производящие пищу, есть "истребители", которые держат грубиянов в подчинении и уничтожают излишек населения, есть, наконец, "бессмертные" - элита общества - ученые, построившие для себя оазис, куда закрыт доступ посторонним, где только избранные наслаждаются комфортом, покоем, а главное, вечной молодостью.
И туда попадает Зед-"истребитель". Спрятавшись в каменную голову, груженную продовольствием, он в ней прилетает в Вортекс, медленно, точно плывя, встает из зерна. Сначала появляется рука с пистолетом (прорастает из зерна как порождение самой природы - многозначительная и очевидная символика), и затем герой стреляет в зрителя, предвещая своим появлением смерть и объявляя свое предназначение убивать. Попав в рай Вортекса, Зед обнаруживает, что жители его совсем не так счастливы своим бессмертием, оно обернулось бесплодием, скукой и нежеланием жить. Так и появляются среди бессмертных "апатичные", безрадостно влачащие ношу ненужной им жизни, и "ренегаты", пытающиеся покончить с собой, но это невозможно - их генетическая структура заложена в электронном мозге, и разрушивший себя человек мгновенно восстанавливается, его только наказывают старостью, которая тоже продолжается вечно.

'Зардоз'. Их символ-пистолет в руках Шона О'Коннори, использующего главную роль Зеда-'истребителя'
Надо сказать, что в пластическом изображении общества далекого будущего, резко отличного от настоящего, Бурмэна постигла явная неудача. Ощущение недостоверности, муляжа все время присутствует в фильме, и дело не спасают сложные комбинированные съемки, полиэкран, оптические эффекты, применение стекла и пластмасс. По сравнению с фильмами Кубрика в смысле декора это явный шаг назад. И если зрители и пресса готовы простить недостоверность среды и фильм пользуется огромным успехом, значит, очень важными и своевременными показались его идеи.
Жителям Вортекса противостоит Зед как воплощение насилия и сексуальной мощи. Эти качества, оказывается, заложены в его генетической структуре, что выясняют ученые дамы Вортекса, анализируя его воспоминания, в которых мелькают кадры убийства и изнасилования женщины, пойманной в сеть. И именно эти качества героя оказываются залогом его жизнеспособности и как бы воплощением благодетельной силы самой природы.
Его живительная мощь оказывается способной вернуть из летаргии "апатичных" - слизывая его пот, прикасаясь к нему, они становятся людьми. Его сексуальный магнетизм привлекает всех встречающихся на его пути женщин-ученых. Его прямолинейная сила позволяет ему проникнуть в тайну управляющего Вортексом супермозга и разрушить его. Падают стены, отделяющие Вортекс от остального мира, и орды "истребителей" проникают внутрь и режут, убивают "бессмертных", которые, хрипя, корчась, плавая в лужах крови, благославляют своих убийц.
Аллегория очевидна. Если в Вортексе воплощен "инстинкт смерти"* западного общества - придите и убейте нас! - то Зед - Коннори столь же явно воплощает декадентский идеал не обремененного знанием и культурой дикаря, чья животная природа и агрессивность являются воплощением жизненных сил природы.
*(Бурмэн не одинок в своем сомнении в прогрессе и разуме. Так, видный английский журналист Малькольм Маггеридж опубликовал в журнале "Эсквайр" статью под красноречивым заглавием "Либералистское стремление к смерти", в которой утверждает, что либералистское стремление к смерти "уже более века разъедает западную цивилизацию, а теперь процесс этот близится к апогею". Учение о прогрессе для него "самая нелепая и, безусловно, самая пагубная фантазия из всех, что когда-либо овладевали человеческими сердцами", наука и техника - "два чудовища близнеца", которые и "превратили мир в бесплодную пустыню", образование - "одно из величайших, если не величайшее мошенничество всех времен и народов". - Цит. по "Лит. газ.", 1971, 4 марта.)
Пессимизм и антигуманизм получают здесь вполне последовательное воплощение. Режиссер прямо говорит в интервью журналу: "Сайт энд Саунд": "Я не только хотел поразмыслить на тему, куда идет наше общество. Есть некоторые цели, к которым мы стремимся, - долголетие, абсолютная гармония, свобода от болезней и так далее. Но так ли они хороши и действительно необходимы?"*. Насилие и жестокость режиссер предлагает в качестве единственного двигателя человеческого прогресса. Красноречив в этом смысле финал фильма. Зед и его жена, бывшая обитательница Вортекса, рождают ребенка, стареют, умирают, и над их скелетами в пещере, как распятие, как символ веры, висит запыленный револьвер героя.
*("Sight and Sound", Spring, 1974, p.77)
Кризис западной культуры, ее традиционных ценностей выразился в этом фильме недвусмысленно и полно.
Антиутопия превращается в утопию, зовущую назад, к первобытной дикости и жестокости.
И наконец, фильм Ричарда Флейшера "Зеленый Сойлент", который дает еще один и, может быть, самый мрачный вариант антиутопии.
Действие картины происходит в Нью-Йорке в 2022 году. Население города в результате неконтролируемой рождаемости увеличилось до 40 миллионов человек. Люди спят прямо на ступеньках жилых и общественных зданий, в огромных ночлежках, прижатые друг к другу, - режиссер создает образ сдавленного, кишащего людьми пространства. Всюду бесконечные очереди - за водой, которую распределяют по строгому рациону, за синтетической пищей компании "Сойлент". Впрочем, богачи по-прежнему пользуются комфортом, и детектив, попавший в дом к убитому члену директората компании "Сойлент", с удивлением пропускает между пальцами струйку воды в ванной и осторожно вдыхает незнакомый запах мыла.
Удивление привычными для нас сегодня вещами и продуктами - один из способов создать ощущение страшной урезанности жизни. Старик-архивист плачет, увидев кусок настоящего мяса, женщина ест клубничный джем, закрыв тщательно окна и двери - это непозволительная, возмутительная роскошь. В этом мире уничтожена растительность, вытоптана и погребена под промышленными отходами, переработана естественная природа. Только перед смертью, предлагаемой старикам и калекам бесплатно и безболезненно, умирающие видят на экране поле красных маков, ручей, тихо струящийся в девственном лесу, стадо косуль на поляне - воспоминания детства, утерянный мир...
А в реальности людей, которые дерутся с полицией из-за нехватки пищи, бульдозеры подхватывают своими черпаками и кидают человеческое месиво в автоплатформы. Но самую страшную тайну этого мира мы узнаем вместе с детективом Торном, расследующим убийство: оказывается, умерших здесь не хоронят, их перерабатывают в пищу. Жуткий кадр секретного завода: лента транспортера, едут покрытые белыми простынями тела усопших, затем чаны, трубы, колеса, трансмиссии, отвратительные чавкающие звуки - и на выходе снова лента транспортера, выбрасывающая зеленые галеты компании "Сойлент".
У Годара, Трюффо, Кубрика, даже Бурмэна будущее страшно своей бездуховностью при относительном материальном комфорте. У Флейшера показано общество, урезанное в самом необходимом, люди просто не имеющие возможности думать о чем-либо, кроме первейших потребностей. Антиутопия доходит здесь до последнего предела безысходности и отчаяния.
Мир будущего, показываемый сегодня в западной фантастике, - это мир без будущего.
* * *
В эволюции фильмов о будущем примечательно не только усиление мотивов отчаяния и страха, но и то как изменяется их главный герой. Характерно прежде всего, как легко вошел в утопический мир традиционный герой "массовой культуры" - человек крепких кулаков и решительных действий. У Годара, как мы помним, это сделано демонстративно: в фантастический Алфавиль приезжает хорошо знакомый зрителю персонаж полицейских фильмов Лемми Кошен. Прямолинейная решительность и профессиональная тренированность сыщика противопоставляются ухищрениям злого гения науки, бесчеловечной машинерии. В голливудских фильмах сделан следующий шаг. Холодному, бесчеловечному миру будущего противопоставляется "естественная природа" человека. Важная подробность: Эдди Константин - Лемми Кошен наглухо застегнут в свой плащ, Чарльтон Хестон и в роли астролетчика в "Планете обезьян" и в роли детектива Торна в "Зеленом Сойленте" часто предстает обнаженным до пояса, демонстрируя зрителю свою мускулатуру. Плоть человека, его физическая сила, его биология и его личная предприимчивость противостоят в этих фильмах анонимному миру техники. Характерно, что решающее столкновение героя с его противниками всегда выливается в физическую схватку, где Хестон или Коннори демонстрируют чудеса ловкости, силы и изобретательности. Опять-таки традиция Голливуда органично соединяется с мифологией современной кинофантастики.
Нравственная же эволюция героя в известной степени параллельна эволюции супермена. Если герой Хестона еще защищает право человека на любовь и семью - традиционные ценности, то Кубрик предпочитает естественную жестокость и агрессивность Алекса его запрограмированной наукой беспомощной мягкости и кротости. Для Бурмэна альтернативы уже нет: в первобытной естественной дикости и жестокости он видит источник жизненной силы и лекарство от расслабляющего и убивающего человека научного прогресса.
Апология "естественного человека" обернулась апологией зверя в человеке.
Аналогичная эволюция происходит и внутри одного из постоянных сюжетов кинематографа - истории Джекиля и Хайда.
|
ПОИСК:
|
© ISTORIYA-KINO.RU, 2010-2020
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'