
II. Размышления об истоках
Когда началось "наше время"?
Незадолго до смерти Илья Эренбург писал: "Я уже говорил, что XX век начался, если забыть календари, в 1914 году, но только пятьдесят лет спустя он окончательно распрощался со своими предшественниками"*. Эренбург тонко подметил какую-то неуловимую особенность 60-х годов - перестройку сознания людей на новую реальность, одним из выражений которой явились успехи научно-технической революции. Все это не бесспорно, конечно, но если даже принять слова Эренбурга без оговорок, то все равно нужно сказать, что как ни долго тянулся прошлый век, а прощание с ним началось очень давно, еще в том же XIX веке. Идеи новейшего времени были высказаны сто и более лет назад.
* ("Наука и жизнь", 1967, № 7.)
В кабинете Альбера Камю висели всего два портрета - Льва Толстого и Федора Достоевского. Любопытно: у признанного властителя дум послевоенной западной интеллигенции, идеи которого имеют истоками немецкую философию, портреты властителей дум давным-давно ушедшего времени, даже не дедов, а прадедов! Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь именно они - Толстой, Достоевский и, пожалуй, Салтыков-Щедрин - первыми, если говорить о России, высказали немало глубоких мыслей о многом из того, что тревожит и волнует людей Запада сегодня - о новой морали машинного века, об одиночестве человека в перенаселенном городе, о величии и ничтожестве людей; они выдвинули этические идеалы, освобожденные от изживших себя догм, и они же ужаснулись сложности пути к этим идеалам. Мысля не отвлеченными категориями философии и политэкономии, а живыми художественными образами, они ясно осознали истинную и неизбежную цену прогресса.
Для того у них были особые условия - мучительная ситуация, сложившаяся в России, усваивавшей капитализм, не расставшись с феодализмом, и начавшийся кризис гуманизма на Западе, где капитализм одержал полную победу, но не выполнил ни одного из лозунгов, под которыми вел борьбу с феодализмом сто лет назад.
Они были очень разными - Толстой и Достоевский,- разными по воспитанию, жизненному опыту и мировоззрению; настолько разными, что, чувствуя взаимное притяжение и проявляя громадный интерес к работе друг друга, явно боялись личной встречи и так жили - наблюдая друг за другом издали, оставаясь незнакомыми. История сблизила их. Нe только для Камю Толстой и Достоевский сегодня кажутся людьми, говорившими об одном и том же по-разному. Они предложили людям такие понятия добра и зла, преступления и наказания, наконец, свободы и несвободы, что, оказалось, и сегодня моралисты Запада могут черпать у них, не исчерпывая.
Толстой и Достоевский жили в эпоху "быстрой, тяжелой, острой ломки всех старых "устоев" старой России"*, и чем-то их эпоха кажется созвучной той ситуации, которая сто лет спустя сложилась на Западе: то же ощущение уходящего мира, та же ломка всего устоявшегося, то же ожидание прихода нового. В такие эпохи на первое место органично выходят вопросы нравственности. Ценность Толстого и Достоевского в том, что они писатели нравственные,- вот прежде всего в чем тайна их успеха сегодня на Западе.
* (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 20, стр. 39.)
О нравственности этих писателей, как важнейшей черте их личностей и их книг, знали уже их современники. "В последнее время я пришел к такому убеждению,- писал П. Анненков в письме Тургеневу в середине 50-х годов,- что между нами нет лица более нравственного, чем Толстой"*.
* (Цит. по кн.: Б. Эйхенбаум, О прозе, М., 1969, стр. 34.)
Толстой и Достоевский были не первыми в европейской литературе мыслителями, ощутившими утрату душевной ясности, характерной для молодого буржуазного общества и сменившейся хаосом в мировоззрении. Но они первыми начали широкий поиск новых духовных ценностей угаданного будущего - ценностей того ряда, которые буржуазные моралисты охотно признают общечеловеческими. Историческая ограниченность нравственных поисков великих русских писателей оказалась тем фактором, который упростил процесс "ассимиляции" их идей на Западе.
Россия конца XIX - начала XX века была вулканом, в котором не только назревал величайший в мировой истории социальный взрыв, но и происходило рождение необычайных интеллектуальных сплавов. Так, если писатели-мыслители искали новые духовные ценности, если они, субъективно даже не принимая жестокость грядущей действительности, осознавали закономерность хода истории и пытались его проанализировать, то почти одновременно с ними - в конце прошлого и в начале текущего столетия - в России действовала группа философов, поэтов, писателей и художников, воспринявшая поворот колеса истории как конец света, как конечную гибель всего, обозначаемого словами "культура", "гуманность", "идеализм", "любовь" и т. д. Для них конец XIX века наступил задолго до его хронологического конца.
Общее между мыслителями, сохраняющими и сегодня свое значение духовных наставников, и в большинстве забытыми певцами "конца света" в том, что все они жили в предчувствии революционного преобразования действительности. Различие - в осознании закономерности этих преобразований.
Пессимизм восприятия действительности и неверие в будущее, так характерные для идеологии современной буржуазии, с невероятной резкостью проявились в творчестве русской группы философов и художников предреволюционной поры. В определенном смысле их можно назвать предтечами нынешних идеологов "конца света". Поэтому есть резон хотя бы кратко познакомиться с этой страничкой истории европейской культуры.
"Серебряным веком" (считая за "золотой" век Пушкина) русского искусства назвал реакционный философ Н. Бердяев время действия этой группы, организационно, впрочем, никак не оформленной. В эту группу входит широкий круг лиц - от Вл. Соловьева, 3. Гиппиус, Г. и Вяч. Ивановых, П. Струве до А. Блока, С. Рахманинова, М. Добужинского и многих других. Очень разные люди, они действительно объединяются в художественное течение благодаря общности культурных истоков, общности социальных чувствований и мировосприятия. Почти каждый был щедро одарен, высоко образован, обладал широкой эрудицией; кого ни возьмешь - не человек, а какое-то утонченное и изощренное чувствилище. Очень немногие из них смогли найти выход из своего блестящего интеллектуального мирка, замкнутого стенами петербургских гостиных и последних уцелевших усадеб. В сущности, лишь Блок да Брюсов сумели увидеть не только закономерность - что было не так уж трудно,- но и нравственную справедливость революции - что для большинства оказалось не под силу.
Предчувствие конца их уютного, тепличного мирка уводило поэтов "серебряного века" в мистику. Спустя полвека мистицизм с новой силой овладеет сознанием определенных кругов западной интеллигенции. Заново будут штудироваться книги Шопенгауэра и Киркегора. Будет стерта пыль с фолиантов средневековых философов-мистиков и как откровение будут открыты книги древних восточных мистических учений - все по той же самой причине ощущения "конца света". Мистицизм проникнет в искусство и, трансформированный техническими средствами так называемой массовой культуры, обернется нелепыми по своей сущности фильмами всякого рода ужасов и комиксами того же плана.
Странное чувство испытываешь сегодня, перелистывая журналы русских декадентов начала века,- бог мой, вот же они, начала эсхатологических чувствований, с такой силой поразивших западное искусство со второй половины 50-х годов. Впрочем, декаданс - не русское "изобретение", он получил в России лишь свое закономерное завершение, превратившись после революции в страничку истории.
Сегодня есть и иная основа для проповеди конца света; гибель мира почти всегда ставится в причинную связь с атомным самоубийством человечества. Независимо от воли и желания людей все их существование встало сегодня под знак "А". Но ведь эсхатология - это учение о неизбежной конечной гибели мира - известна уже Библии. Его знали и Вавилон, и Египет, и древние цивилизации Америки. Оно появлялось на исходе какого-нибудь исторического периода и объективно отражало пессимистические настроения уходящих в небытие господствующих классов, иногда даже цивилизации. А наследники ушедшей цивилизации придавали эсхатологии предков характер несоциального пророчества, тем более авторитетного, чем оно архаичнее. Поэтому очевидна общность истоков эсхатологических чувствований русских поэтов начала века и западных художников его середины,- оплакивается вполне конкретный мир буржуазных отношений между людьми, в том и ином случае символ "гибель мира" расшифровывается как гибель изжившего себя общества.
Правда, никогда и нигде еще умирающая цивилизация не обладала возможностью утащить с собой в могилу и весь мир. Атом - это новая историческая реальность; атомная угроза заставила коренным образом пересмотреть отжившие традиции, учения, догмы, заставляет ежедневно и ежечасно искать решения, которые показались бы невозможными еще тридцать лет назад. И до того момента, когда будет уничтожена последняя атомная бомба и переплавлена на кастрюли последняя боевая ракета, человечество не избавится от страха. Без веры в разум человечества сегодня стало невозможно жить.
Однако атом, эта новая реальность, лишь усложняет понимание социальной сущности эсхатологических настроений в современном мире; основу их все же составляют ассоциированные с концом мира ожидания конца своего класса. Эти ожидания обострились в "беременной революцией" России начала века и нашли выражение в поэзии символистов. Эти ожидания широко распространились на Западе с середины века и достаточно ярко выразились даже в творчестве некоторых мастеров нового искусства - кино. Глубокое отвращение к действительности, неверие в разум и пессимизм в оценках перспектив человечества - все это легко просматривается у испанца Луиса Бунюэля, шведа Ингмара Бергмана, итальянца Микельанджело Антониони и некоторых других кинорежиссеров.
Мир потерял устойчивость и надежность, человеку стало неуютно в этом мире,- такого рода ощущения достаточно полно выразили некоторые течения литературы и искусства еще в прошлом веке. В этом смысле прощание с прошлым началось задолго до появления нового. И драма человечества заключается в том, что прощание это растянулось на век.
Стоит напомнить, что XX век начинался в обстановке радужных надежд, незыблемого, казалось бы, покоя и непоколебимой уверенности, что впереди людей ждут счастье и полное довольство. Желтеющие газеты и журналы первых лет нашего века рождают сегодня чувства, подобные, наверное, тем, с какими может старик рассматривать завалявшийся на чердаке и случайно попавший в руки детский дневник,- сколько наивности и эгоцентризма, сколько ничем не объяснимого оптимизма и самодовольства! Эпоха мирного труда, отказ от войн, невиданные успехи науки и техники, расцвет искусства, совершенствование человеческой натуры - таким представляли XX век пророки массовой прессы, уже родившейся в те годы. Главное же, казалось им, что бы ни произошло, все будет в XX веке идти на благо людей, достигших уже будто бы той стадии развития, когда разум исключает сознательное зло в Действиях народов...
Было ли это самообманом или просто обманом читателей? Ведь все это писалось в годы мирового экономического кризиса 1900-1903 годов, когда в немецком генеральном штабе был уже готов план вторжения во Францию. А там, во Франции, мечтали о реванше за Седан и возвращении Эльзаса и Лотарингии. Уже в Париже и Лондоне, Берлине и Вене дипломаты завершали деление Европы на два враждебных лагеря. А в бесконечно далекой тогда Америке, официально проводившей политику изоляционизма, уже раздавались голоса, утверждавшие, что нет на Земле места, до которого США не было бы дела.
Это писалось в годы, когда еще никому не известный эмигрант из варварской России издавал газету и выпускал книгу за книгой, в которых четко, с несокрушимой логикой и убежденностью излагались цели, пути и средства социалистической революции,- напомним, что первое издание книги "Что делать?", этой программы создания пролетарской партии, появилось весной 1902 года.
Что же, буржуазные пророки не видели или не желали видеть, что мир сотрясается, как перегретый паровой котел? Видели, конечно. В их писаниях был и прямой обман, но было и нечто другое. Была память о долгих веках жестокой истории Европы, которая служила, казалось, гарантией, что теперь-то уж такое невозможно - ни столетние войны, ни коварные нападения, ни сжигание на кострах инакомыслящих, ни варфоломеевские ночи, ни - в этом-то они особенно казались уверенными - революции вроде английской или французской. Европа казалась обжитой и уютной. Еще не было, в сущности, ни самолетов, ни автомобилей, а туристские поездки из Петербурга в Париж, из Берлина в Мадрид, из Лондона в Рим стали обычаем. Границы не мешали студентам на каникулах бродить или ездить на велосипедах всюду где вздумается...
И вдруг! 15 июня 1914 года сараевские студенты и молодые офицеры с помощью примитивной бомбы и револьвера приканчивают наследника австрийского престола и его супругу. Первая реакция военного губернатора Боснии и Герцеговины - это сделали "социалисты"; реакционной газеты "Русское знамя" - "жиды"; корректной "Дейли кроникл" - "русские"*. Но общее отношение к акту поначалу - равнодушное недоумение. Царский посол сообщал из Вены: "Отношение венского населения к вышеозначенному трагическому событию было довольно безучастным... в самые дни пребывания в Вене останков убитых наследника престола и его супруги народные увеселения в Пратере не прекращались и музыка гремела повсюду, как в обыкновенное время".
* (И. Файнберг, 1914-й, М., 1934, стр. 12.)
Сохранилось множество документов, свидетельствующих, что события в Сербии Вильгельм II решил во что бы то ни стало использовать для "свалки", как он назвал войну. Впрочем, к тому же стремился и другой лагерь. Царский военный министр Сухомлинов засвидетельствовал в своих "Воспоминаниях": "Я твердо уверен, что за это время (от 24 по 28 июля 1914 г.- Р. С.) состоялось решение войны или мира, причем великий князь Николай Николаевич, Сазонов и Пуанкаре сговорились во что бы то ни стало парализовать всякую попытку мирного исхода".
Странное то было время. Решение воевать было принято, а люди жили, веселились, ехали к теплым морям отдыхать, строили планы на осень. В газетах они читали успокаивающие сообщения. Многие газеты вскоре вообще перестали писать о сербских делах - как слишком далеких и незначительных для судеб Европы. Но тайная война уже шла. И по иронии судьбы ее первый официальный документ был принят там, где через две недели должен был бы открыться XXI Международный конгресс мира,- в роскошном здании австрийского парламента, и теми, кто составлял Почетный комитет мирного конгресса,- министрами Унгаршитцем (президент комитета), Штюргком, Билинским и другими.
В годы войны кино начало превращаться в искусство. И первый фильм, который сразу же был признан выдающимся произведением искусства кино, попытался обратиться к людям с проповедью. Это действительно прекрасный фильм, мастерство некоторых его эпизодов и сегодня еще вызывает уважение. Его художественные достоинства на многие годы определили развитие мирового кинематографа и оказали воздействие едва ли не на всех выдающихся кинорежиссеров 20-х годов. И это в то же время на редкость, прямо до умиления наивный фильм.
Конечно, "Нетерпимость", а речь идет о ней, могла быть создана только в Америке - еще не воевавшей, далекой от Вердена, в том же самом 1916 году залитом немецкой и французской кровью, и от всех других фронтов, в сытой и самодовольной, не понимающей своего ханжества стране.
Дэвид У. Гриффит, автор "Нетерпимости", был художником честным и убежденным - даже в своих ошибках и заблуждениях, очевидных для нас. Сформированный той своеобразной эпохой, когда быстро разраставшийся монополистический капитал еще не вступил в непримиримое противоречие с буржуазной демократией, Гриффит непоколебимо верил и в мудрость библейских заповедей и в силу человеческой доброты. Он верил, что его фильм нужен людям, что он, Д.-У. Гриффит, несет людям прозрение... Бог знает во что он еще верил! Во всяком случае, Эрих фон Штрогейм, работавший ассистентом и военным консультантом "Нетерпимости", позднее вспоминал, что Гриффит считал свою работу чем-то большим, чем просто съемка очередного фильма. Получилась же у него лишь проповедь, по кругозору достойная какого-нибудь деревенского попика, доброго и недалекого.
И Христос был распят, и царство Валтасара рухнуло, и гугеноты были вырезаны в Париже, и рабочие страдают в трущобах все по одной и той же "вечной" причине - из-за нетерпимости, из-за неспособности, а скорее даже, нежелания людей подавлять дурные инстинкты. (Не трудно было представить пятый эпизод фильма - из-за нетерпимости идет мировая война!) "Нетерпимость", несомненно, несла сильный заряд пацифистского отрицания войны, за что и была встречена крайне неприязненно в самой Америке, уже готовившей экспедиционную армию. Но как объяснение и толкование действительности эта картина могла вызывать только иронию.

Фотография-символ. Оглушенный, отключенный, не желающий ничего знать парень - таких немало на Западе и по сей день
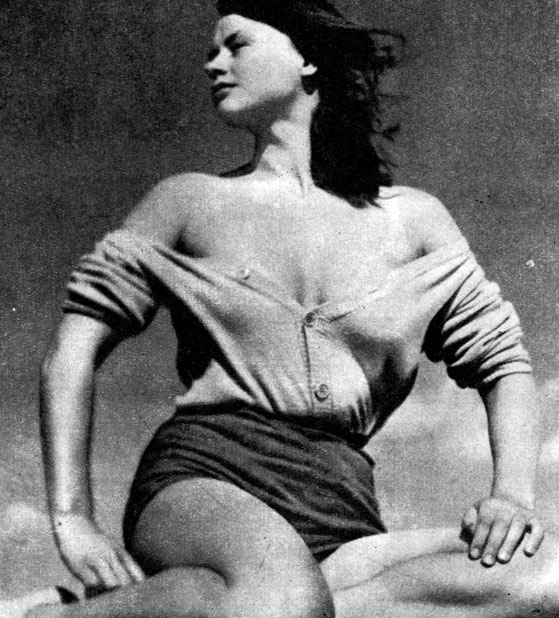
Кадр из фильма 'Лето с Моникой'

Джеймс Дин - кумир молодежи 50-х годов

'Обманщики': 'неблагополучная молодежь' 50-х годов выглядела на экране весьма благополучной

'Лучшие годы нашей жизни' - годы войны с фашизмом

Кадр из фильма 'Нет мира под оливами'

'Кузены' Шаброля - новые герои 'новой волны' в кино

'Дикие ангелы' - реальные и кинематографические

'Дикие ангелы' - реальные и кинематографические

'Дикие ангелы' - реальные и кинематографические

Жан-Поль Бельмондо. Трудно найти другого актера, который бы с такой силой выразил в кино отрицание молодежью буржуазных этических норм

Кадр из фильма 'Китаянка'

Жан-Поль Бельмондо и Джин Себерг в фильме 'На последнем дыхании'

Брижитт Бардо заявила: 'Мои героини были нравственны...'

Брижитт Бардо и Мерилин Монро казались в 50-х годах двумя полюсами 'моды на красоту'. Через десятилетие их помещают в истории кино рядом, 'через запятую'

Брижитт Бардо и Мерилин Монро казались в 50-х годах двумя полюсами 'моды на красоту'. Через десятилетие их помещают в истории кино рядом, 'через запятую'

Кадр из фильма 'Тяжелая расплата'

Марлон Брандо - одно из 'чудес' Голливуда

Не легко объяснить, почему Мацек, вдохновенное создание Збигнева Цибульского, уже 15 лет волнует молодых зрителей
Война так или иначе задела все народы Европы, так или иначе отразилась на жизни всех людей. Но подлинной жертвой оказалась молодежь, составлявшая подавляющее большинство в воевавших армиях. И молодежь, принявшая на свои плечи всю кровь и грязь войны, вышла из нее опустошенной, духовно надломленной или совершенно сломленной. "Я выслушал после войны много признаний славных юношей,- писал в 1930 году Р. Роллан,- я тщательно изучил внутреннюю драму молодых поколений. Трагичнее и мучительнее всего - горечь отчаяния людей, которых обманули, постыдно обманули, осмеяли и оскорбили в их верованиях и надеждах и которые ни во что больше не верят, не желают верить и отплачивают миру и самим себе бешеным отрицанием, самоубийством унизительных наслаждений, смертоносной иронией, топчущей в грязь все, что некогда было для них священно"*. Эти настроения определили атмосферу, в которой росли те, кто были в 1914-1918 годах слишком малы, чтобы носить мундир. Камю, которому было три года, когда началась война, писал, что "барабаны войны", лишившей его отца, преследовали его всю жизнь. И не эти ли "барабаны войны" обусловили его трагическое восприятие жизни, привели к философии человеческого одиночества и мрачного бессилия перед жизнью?
* (Р. Роллан, Собрание сочинений в 14-ти томах, т. 13, М., 1958, стр. 197.)
Родилось поколение "потерянных", которое само рассказало о себе. Книги Хемингуэя, Дос Пассоса, Ремарка, Олдингтона и некоторых других писателей, прошедших школу войны, остаются и сегодня одними из самых популярных и читаемых книг. Очевидно, "потерянные", рассказывая о себе, рассказали о самой острой драме века.
Некоторые особенности европейской послевоенной действительности особенно ярко отразились в книгах Ремарка. Необычен был уже первый его роман, который, надо сказать, подвергся критике со всех сторон. Немецкие националисты осыпали писателя бранью за преувеличения, будто бы ложь и нигилизм, подрыв национального духа и т. п. Немедленно появились книги, оспаривавшие утверждения Ремарка,- французская "На Восточном фронте без перемен", немецкая "Под Троей без перемен". Наконец, пришедшие к власти фашисты просто запретили роман, уничтожив все ранние издания. С другой стороны, и у нас в стране критики вульгарно-социологического толка также выразили недовольство: хорошо, что герои осознают обман и жестокость происходящего, но никуда не годится, что "они не уходят с позиций. Они не бегут с фронта. Не превращают империалистическую войну в гражданскую"*. Между тем думается, что Ремарк всегда говорил о другом. Критический пафос его книг, в сущности, невелик. Главное для него все же - особенно в "Трех товарищах" - утверждение, что люди, пережившие войну, приобрели взамен утраченных ценностей новые, не менее значительные духовные ценности.
* ("Литературная учеба", 1932, № 7-8, стр. 91.)
Ремарк настойчиво воспевает товарищество как величайшую ценность на земле. У него фронтовое товарищество с его неписаным кодексом чести замещает утраченные довоенные иллюзии и противостоит миру сытого и хищного по внутреннему естеству филистерства. Вернувшись с фронта, его солдаты не смогли сделать то, о чем мечтали,- "послать в преисподнюю всю эту чертову лавку", изменить жизнь. Но они, утверждает Ремарк, составили как бы негласное сообщество людей, в нужный момент выступающих единым фронтом против чуждого им мира купли-продажи. Вспомним для примера сцену выступления бывших фронтовиков в защиту товарища, убившего свою девушку, в романе "Возвращение". Здесь фронтовое братство выступает против суда. Еще чаще оно действует против обидчиков фронтовиков, персонифицированных в образах дельцов, хозяйчиков, спекулянтов - словом, тех, кто наживался на войне. Товарищество, создающееся на фронте,- главная ценность героев Ремарка, главное их богатство. Хемингуэевский герой, способный сделать то, что советовали некоторые критики,- убежать с фронта,- не имеет, в общем-то, никаких преимуществ. Потеряв любовь, Генри, герой романа "Прощай, оружие!", теряет единственный стимул к жизни. На этой же тоненькой ниточке - любви - держится и жизнь героев Олдингтона. У Ремарка герои, теряя любовь, теряют счастье, но если не смысл, то стимул к жизни у них остается благодаря чувству локтя с товарищами.
Надо сказать, впрочем, что "Прощай, оружие!" - книга для Хемингуэя несколько странная, ибо лишена обычных для него мужественных интонаций и глубокого проникновения в мудрость бытия; это книга очень усталого, разуверившегося человека. Думается, что "Фиеста" ("И восходит солнце...") рассказывает о "потерянных" интереснее и правдивее; все достоинства и весь трагизм людей, ограбленных войной, здесь выражены с наибольшей полнотой. Именно Джейк Барнс и Брет Эшли - подлинные и типичные герои "потерянного поколения": без вины виноватые, безнадежно несчастливые, побежденные обстоятельствами и все же не сдавшиеся люди. Знакомство с их судьбой очищает, потому что при трагической судьбе они остаются людьми прекрасными - умными, чистыми и тонкими. Они живут, отвергнув официальную мораль, живут по неписаным законам внутренней порядочности. Эти законы тоже сформировали фронтовое товарищество и чувство локтя. Эти неписаные законы и помогли этому поколению вернуться в мир, несмотря ни на что.
Герои "потерянного поколения" верят не только в солдатские ценности и мужскую дружбу, но и в любовь. В сущности, они тогда были единственными в Западной Европе, кто сохранял веру в это чувство. Но право любить - это первое, что отнимает у них жизнь. Отнимает по-разному: иногда прямолинейно - как отнимает смерть нежных и хрупких подружек у ремарковских солдат; иногда коварно - случай с Джейком Барнсом; но всегда отнимает жестоко и окончательно.
Читая книги Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона и ряда других писателей, легко убедиться, что бывшие солдаты весьма подозрительно относятся к понятию "героизм". А если кто-нибудь вслух произнесет это слово, то они буквально на стенку лезут. Полковник Кантуэлл из "За рекой в тени деревьев" "отрицает героизм" очень выразительно - делая большую нужду на том месте, где в 1918 году был ранен в бою и награжден военной медалью. Но не очень-то верьте тому, что говорят солдаты. Они отрицают болтовню о героизме. Но они знают, что они могут быть героями, и это знание делает их нравственно сильными, необычными, это выделяет их из среды, позволяет поступать так, как другие не могут или не смеют поступать. Одни ищут опоры в деньгах, в высоком общественном положении; самые слабые - в "запретах"; а они - в том, что сожгло в их душах мелкое и мелочное, в новой мудрости, гласящей - теряет лишь тот, кто боится, кто соизмеряет желание с платой. Это совсем не значит, конечно, что "потерянные" превращаются в каких-то сверхчеловеков, стоящих над законами и нравственностью. Напротив, им свойственны и подлинная человечность и бесконечная бережность ко всему подлинно человечному.
Литература "потерянных" не исчерпывается именами Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона - она очень велика; и, пожалуй, литература критическая, посвященная ей, ничуть не меньше. Мы назвали лишь те моменты, которые нужны нам для проявления простой мысли о том, что люди, потерявшие на фронтах первой мировой войны иллюзии, вошли в 20-е годы как носители новых, хотя и очень непрочных духовных ценностей.
Успех литературы о "потерянных" не в том, что мещан Европы и Америки заинтересовала военная экзотика. В этой литературе были ценности, которых начисто лишились к тому времени люди и процветавшей Америки и успешно зализывавшей раны Европы. Герои этой литературы выглядели изломанными, опустошенными, бесконечно несчастными, и все же им завидовали, ибо у них "что-то" было за душой.
Можно сказать, что "потерянное поколение" - последнее, возможно, поколение романтиков на Западе. Поколения, поднявшиеся после второй мировой войны, обладают, разумеется, своими достоинствами, но уж в романтизме и идеализме их никак не заподозришь. И не поисками ли этих утраченных чувств объясняется интерес к "потерянным"? А интерес очевиден. Когда в середине 50-х годов в США появились книги Джека Керуака и других писателей-битников, критики сразу же стали сравнивать их с литературой "потерянных", Хемингуэя в том числе. Когда в конце 50-х - начале 60-х годов во Франции родилась "новая волна", кое-кто из критиков тоже вспомнил литературу 20-х годов.
Вопрос только в том - было ли поколение "потерянных"?.. В любом случае поколение, прошедшее войну, не было однородным, буржуазная действительность расслоила его мгновенно и решительно.
Те, кто до конца понял лживость лозунга войны за демократию и спасение родины, кто разобрался в хитрой механике империалистической войны, нашли правильное место в послевоенной борьбе. Напомним, что молодые коммунистические партии в послевоенной Европе состояли в большинстве из бывших солдат.
Те, кто вынес с фронта лишь горечь и ярость, вошли в мир, ничему не научившись, ибо "бешеное отрицание", "самоубийство унизительных наслаждений" и "смертоносная ирония", о которых писал Роллан, были знакомы и раньше, до войны, пусть и не в таких масштабах. Такая "самоубийственная" критика никого не пугала и ничего не меняла.
Те, кто вышел из войны лишь с сознанием, что по-старому жить нельзя, прошли путь новых разочарований, поисков и в конце концов также расслоились. Уже Ремарк, воспевая фронтовое товарищество, показал и его зыбкость: имущественное неравенство демобилизованных солдат сразу же отделяет некоторых из них; позже вступают в права такие факторы, как счастливые и несчастливые браки, удачные и неудачные карьеры, везение и невезение - словом, быт со всеми его невидимыми миру слезами. А ведь помимо быта были и поосновательнее причины для расхождений: идейные.
Нет весов, на которых можно было бы взвесить просчеты и достоинства поколения, пришедшего с фронтов первой мировой войны и морально ответственного за все, что произошло в 30-х и 40-х годах. Тем, кому было в 1919 году от 20 до 30 лет, в 1939 году, когда началась вторая мировая война, было от 40 до 50 лет,- они находились в активном для человека возрасте. И если верно, что историю творят я, ты, он, то не так-то просто будет отказать молодежи в праве представить уходящему поколению счет и спросить, как же могло случиться, что люди, пришедшие с одной неправедной войны, еще на своем веку позволили развязать другую?
Были силы, которые сделали все возможное, чтобы тогда же, еще в 20-х, заставить людей забыть недавний ужас войны, увести их от размышлений о причинах и виновниках бед. 20-е годы были шумными и беспорядочными, циничными и хмельными равно и для победителей и для побежденных. Через тридцать лет возникла легенда о необычайной плодотворности 20-х годов в области искусства. Да, как и всегда, в те годы появились мастеpa, продолжившие вечное движение искусства к совершенству, но прежде всего эта "эпоха джаза" занималась ниспровержением, ломкой, саркастическим отказом от всего "благоразумного".
Чем-то, по-видимому, 20-е и 60-е годы для Запада сходны,- не случайно их вспомнили сегодня. Не случайно, продолжая легенду, III Гуманитарно-научный конгресс, заседавший в ноябре 1960 года в Мюнхене, объявил 20-е годы "эпохой Перикла" в истории западноевропейской культуры. Кстати, многие фильмы 60-х годов, рассказывавшие о событиях тридцатилетней давности, также поддержали миф об "особом очаровании" 20-х годов,- в этой связи можно вспомнить изысканную ленту Франсуа Трюффо "Жюль и Джим".
О том, какие это были годы, недурно сказал Уильям Шламм, которого никак уж не заподозришь в симпатиях к современности. Его знаменитая книга "Молодые хозяева старой земли" пропитана ненавистью ко всему молодому, прогрессивному, ищущему, и диапазон его нападок - от коммунистов до Дж.-Ф. Кеннеди. Но в книге есть такие слова: "Видит бог, 20-е годы отнюдь не были "веком Перикла". И это знает не только бог. В конце концов, ведь по обе стороны Атлантического океана еще существуют миллионы людей, которые сами пережили эти 20-е годы... Атмосфера этой эпохи запечатлена в полном скрытого смысла фильме "Калигари", который возник в самом ее начале ("Кабинет доктора Калигари" режиссера Роберта Вине вышел на экраны в 1920 году.- Р. С.) и все предвосхитил: уродство, ужас, смерть. Но "Калигари" превратился в настоящий символ 20-х годов именно в результате инстинктивно принятого решения развернуть сюжет фильма в реальной обстановке увеселительного заведения"*.
* (W. S. Schlamm, Die jungen Herren der alten Erde, Stuttgart, 1962, S. 37, 39.)
А позже появилась книга, которую не причислишь к "лучшим книгам всех времен и народов", как к "лучшим фильмам" причислили - по какому-то недоразумению - "Доктора Калигари", но которая очень точно передала настроения "века Перикла", настроения людей той поры - "Любовник леди Чаттерлей" Дэвида Г. Лоуренса. Один из героев этой книги говорит: "Наш век - трагический в своей основе век, и поэтому мы отказываемся воспринимать его трагически. Находясь среди обломков катастрофы, мы пытаемся как-то приспособиться и на что-нибудь надеяться. Это очень трудная задача: нет ясной дороги в будущее. Но мы обходим преграды или пытаемся перелезть через них: ничего не поделаешь, надо как-то жить и после катастрофы, как бы ни велика она была". Приспособиться - вот "мудрость" человека, пережившего крушение идеалов буржуазии, и это та же "мудрость", которую сегодня воспитывают идеологи буржуазии.
Эта "мудрость" отвергнута сегодня значительной частью молодежи Запада. Сегодня понять порочность попыток приспособления не трудно. Достаточно задать вопрос: как могли люди, пережившие 1914-1918 годы, допустить кошмар 1939-1945 годов?
Я представляю себе юнца - во Франции, например, или Англии,- задающего такой вопрос, вопрос, по существу, о личной ответственности, и... не завидую его отцу и деду. Ведь они, чтобы быть честными, должны сказать в ответ: "Мы, мол, маленькие, ничего не значащие человечки, потому что никакой ни черта демократии нет и все за нас решает кто-то наверху. Я, твой дед, и оглянуться не успел, как пришлось снова браться за оружие. И хотя не я выпустил на свободу фашизм, именно мне и моему сыну - твоему отцу - пришлось с фашизмом драться. А что было делать?.."
Не здесь ли истоки того раскола поколений, что ныне мы наблюдаем на Западе?
Да, герои "потерянного поколения" обладали стойкостью и умением мужественно принимать удары судьбы - способностью, мало свойственной поколению 50- 60-х годов,- но на что-либо большее, чем индивидуальный бунт, они не были способны. Можно сказать даже, что они сменили одни иллюзии на другие, и когда пришел час, то те же самые силы, которые загнали их в тупик 1914-1918 годов, не оставили им никакого выбора и в 1939 году.
Об иллюзиях этого поколения рассказал кинематографист. В 20-х и в начале 30-х годов, очевидно, кино еще не обладало ни достаточным умением, ни опытом, чтобы браться за такие темы, как судьбы поколений. Роман Ремарка "На Западном фронте без перемен" был экранизирован уже в 1930 году, и фильм Л. Майлстоуна входит в число достижений Голливуда той поры. Но при всех своих достоинствах фильм является лишь удачной копией книги,- так же как и экранизации 50-х годов романов Хемингуэя - "Фиеста" с великолепным выступлением Авы Гарднер в роли Брет Эшли, "Прощай, оружие!" и "По ком звонит колокол". Оригинальные фильмы 20-х - начала 30-х годов порой несли резкий антивоенный протест, нередко правдиво и честно рассказывали о военной трагедии и иногда даже ставили перед зрителями острые социальные вопросы. Но за самым малым исключением они не могли равняться с литературой ни по глубине содержания, ни по художественным достоинствам. Таким редким исключением - произведением, совершенным по форме, оригинальным по проблематике, глубоким и тонким по анализу затронутых вопросов,- стал фильм Жана Ренуара "Великая иллюзия".
Этот фильм - своего рода ответ на вопрос нашего юнца.
Ренуар испытал на войне все, что может достаться на долю солдата. Раненный во время кавалерийской атаки и отчисленный по инвалидности, он проходит специальную подготовку и становится военным летчиком-наблюдателем. Его самолет сбивают за линией фронта, и 1916-1918 годы он проводит в немецком плену, за попытки к бегству переходя в лагеря со все более строгим режимом. Фильм автобиографичен, ибо рассказывает о том, что испытал и видел его автор.
Война - самая противоестественная и нелепая вещь на свете,- вот главная мысль фильма. Для лейтенанта Морешаля (актер Ж. Габен), рабочего парня, парижского механика, попавшего в офицерскую касту благодаря своим "золотым рукам", война - дикая и нелепая история, к нему никакого отношения не имеющая, и он убежден, что она никогда больше не повторится. Для капитана де Боальдье, изящного, утонченного маркиза, нелепость войны также очевидна, но довлеющие над ним традиции и воспитание заставляют его по-иному относиться ко всему. Для Морешаля воевать - делать грязную, противную, ненужную, но неизбежную работу; для Боальдье - исполнить с достоинством свой офицерский долг.
В фильме есть запоминающаяся сцена. Морешаля и Боальдье, взятых в плен, вводят в немецкий штаб. Майор фон Рауффенштайн, едва скользнув взглядом по простоватому лейтенанту-плебею, изысканно приветствует все так же подтянутого, изящного, сдержанно-любезного маркиза. Встретились не враги - рыцари. Одному не повезло в бою, но это ничего не значит - люди одного класса остаются равными и сейчас, как были равны до войны в аристократических салонах, имевшие общих знакомых, посещавшие одни и те же ипподромы, рестораны, знавшие одних и тех же танцовщиц...
Иллюзия, и совсем не великая, что война шла за демократию,- доказывает Ренуар. И на войне французскому маркизу остается понятнее и ближе сбивший его немецкий барон, нежели французский рабочий. Иллюзия и то, что война - благородный поединок равных; неумолимо и закономерно она приведет барона к необходимости совсем не по-рыцарски пристрелить маркиза. И наконец, великая иллюзия: Морешаль, пересекая после удачного побега немецкую границу, произносит: "Надеюсь, что эта проклятая война - последняя!" Это было сказано в 1937-м. Уже в следующем году Гитлер захватил Чехословакию...
Ренуар историчен в своем рассказе. Да, показывает он, война бесчеловечна и, в сущности, не нужна даже маркизу - этому профессиональному солдату. Но, поверьте, боевое братство фронтовиков держалось не только на общей беде, а и на общем чувстве любви к родине. Без убеждения, что выбора нет и нужно защищать свободу и честь родной страны, было бы невозможно вынести все муки. Боальдье и Рауффенштайн - люди одного класса. Это одна правда. Морешаль мгновенно найдет общий язык с немецкой крестьянкой Далио, у которой под Верденом погибли муж и братья. Это другая правда. Но правда и в том, что барону придется стрелять в маркиза, а Морешалю - уйти от любимой Далио. Правда будто бы и в том, полагает Ренуар, что маркиз, рабочий, банкир, учитель, негр в определенных обстоятельствах встают плечом к плечу в едином строю.
...Это произойдет в день получения известий о падении французского города Дюомона. Военнопленные, делая вид, что не замечают радости немцев и не придают никакого значения сообщению, устраивают "вечер самодеятельности". Одевшись в дамские наряды, выписанные солдатом-банкиром из Парижа, долговязые парни отплясывают канкан, вызывая восторг у друзей и презрение у охранников. В разгар веселья на сцену врывается Морешаль и кричит, что Дюомон отбит у немцев. Пауза - и зал в едином порыве встает, и гремит над лагерем "Марсельеза". Сорвав парики и дамские тряпки, поют парни, только что ломавшиеся в канкане. Торжественно поет Морешаль. Обнаженный до пояса, стройный и красивый, как молодой греческий бог, поет Боальдье. Поет банкир Розенталь. Поет негр...
"Великая иллюзия" показывает более сложную психологическую и социальную картину тех далеких лет и в чем-то умнее отвечает на вопрос, как и почему воевали деды, чем большинство романов о "потерянном поколении". В фильме противоречия и слабости этого поколения освещаются полнее и глубже, нежели даже в суровых книгах Хемингуэя. По фильму легче судить о том, как же это случилось, что Европа повторила старые ошибки. Хотя, пожалуй, даже в те годы мало кого мог до конца удовлетворить ответ Ренуара: "Мы избавились далеко не от всех иллюзий..."
Да, "старикам" в Западной Европе нелегко, наверное, отвечать на вопросы молодых. Прошлое столь кроваво и неправедно, что, вспоминая его, невозможно не спросить и о виноватых.
Когда началось "наше время"? Очевидно, на такой вопрос не ответишь точной датой. Прошлое и настоящее связаны тысячами нитей, особенно для западного общества, прошедшего через ад мировой войны, но не познавшего очистительной бури социальной революции.
|
ПОИСК:
|
© ISTORIYA-KINO.RU, 2010-2020
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'