
Павел Петров-Бытов (М. Блейман)
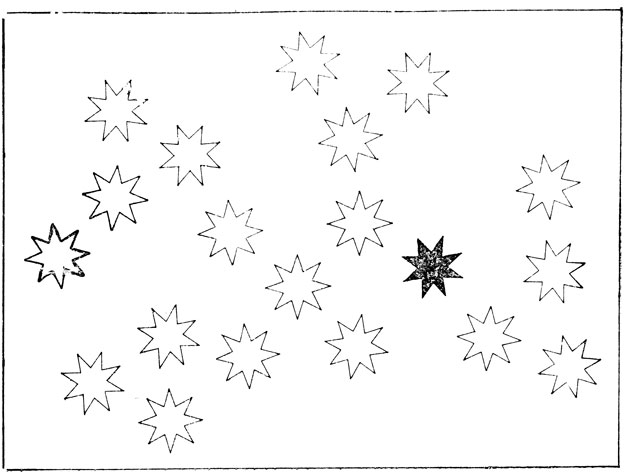
В Московском Доме кино решили устроить вечер памяти Павла Петровича Петрова-Бытова. Это было справедливо. Он был человеком колоритным и своеобразным не только в режиссуре, но и в принципиальных высказываниях о советской кинематографии, которые утверждал в практике. И пусть развитие нашего искусства пошло не по предсказанному им пути, картины его и высказывания были характерны для своего времени.

'Каин и Артем'
Об этом и нужно было сказать в "поминальном" слове. Обратились ко мне, хотя трудно было найти менее подходящего человека. Мы никогда не работали вместе, но, будучи дружески близки, не были единомышленниками. Наоборот - мы горячо враждовали в эпоху, когда в кинематографии еще полыхали творческие споры.

'Каин и Артем'
Но Павел Петрович был моим товарищем. Вражда между нами давно ушла, а память осталась. И я не счел себя вправе отказаться от доброго слова о человеке, с которым много лет проработал рядом.
Я восстановил в памяти картины Петрова-Бытова, его темпераментные полемические выступления, его внешний облик. Короче, я приготовился говорить о нем. Но, придя на "поминальный" вечер, я неожиданно растерялся.

'Разгром Юденича'
На стенах Дома кино были развешаны картины, написанные покойным режиссером, а я даже не знал об его пристрастии к живописи. Но удивительным было не это, а характер полотен, созданных Павлом Петровичем. Я увидел странные фантастические пейзажи и множество живописных абстракций.

'Разгром Юденича'
Геометрические, по-разному окрашенные фигуры - кубы, трапеции, треугольники, круги, а больше всего спирали - иногда образовывали глубинные композиции, а иногда причудливо сочетались на плоскости.
Я не знаток абстрактной живописи, ее не люблю, и мне трудно было определить, хорошими или плохими были картины. Но все-таки я понял, что, варьируя геометрические мотивы, художник добивался какой-то пусть для меня и непонятной выразительности, создавал зашифрованный универсальный образ, формировал представления о пространстве.

'Разгром Юденича'
Кроме того, я видел достаточно живописных работ абстракционистов от Малевича до Миро и убедился в том, что полотна, написанные Петровым-Бытовым, были не подражательными, а в чем-то самобытными и оригинальными.
Позже, из разговора с вдовой Павла Петровича, я узнал, что картины его были не случайными. Он готовился снимать фильм о космосе и писал для него подготовительные эскизы.
Повторяю, увиденное смутило меня. Я хотел говорить о творчестве режиссера, который последовательно и убежденно стремился к реалистическому стилю. В эпоху, когда наша кинематография была охвачена поисками новой выразительности, именно Петров-Бытов отрицал любое новаторство, отстаивал натуралистические позиции. Что же произошло? Почему этот последовательный и принципиальный приверженец натурализма пришел к поискам абстрактного выражения абстрактных идей?
Так я понял, что чего-то не увидел в человеке, о котором собирался сказать поминальное слово. Мне казалось, что творческая психология Павла Петровича предельно ясна и что рассказ о нем сможет быть несложным, как несложным было его искусство. А оказалось, что творческая эволюция режиссера была противоречивой и сложной. И то, что он отказался без всяких внешних побуждений от постановки художественных картин и стал ставить научные фильмы, было тоже признаком какого-то существенного переворота. К сожалению, я был лишен возможности расспросить самого Павла Петровича о творческой драме, одолевавшей его. Увы, человека уже не было с нами.
Скажу честно, я сказал плохую и малоубедительную речь на поминальном вечере. Я чувствовал, что говорю не то и не так, как нужно.
И вот я хочу теперь, пусть с опозданием, разобраться в том, что произошло с художником.
Но раньше мне придется напомнить читателю об истине, которая уже стала трюизмом.
Истинный масштаб человека определяется длительностью исторической жизни его дела. История всегда справедлива, и вряд ли нужно жаловаться на ее жестокую забывчивость.
Поэтому можно понять закономерность того, что авторы исторических монографий сосредоточивают внимание на людях и явлениях, уже как бы "очищенных" историей. Только так можно избежать случайных оценок, неоправданного внимания к некогда пользовавшимся коротким успехом книгам, спектаклям и фильмам ИЛИ К второстепенным проблемам, пусть они И были предметом горячих дискуссий. Наверно, справедливо то, что никому не приходит в голову переиздавать романы Шеллера-Михайлова и стихи Розенгейма, реконструировать спектакли Евтихия Карпова или выпустить повторным тиражом фильмы Висковского и репродукции картинок Ропета.
Вместе с тем историк не может ограничиться констатацией непреходящих явлений, констатацией величия людей, которые сохранила историческая память. Он должен реконструировать историческую действительность хотя бы для того, чтобы найти в ней истоки возвышения людей и явлений, привлекших его оправданное внимание. Поэтому иногда нельзя забывать о людях, не заслуживших исторической жизни, о явлениях, не выдержавших испытания исторической памятью. О них нужно помнить потому хотя бы, что с ними спорили, их опровергали, те, кто завоевал свое прочное место в истории.
Конечно, в истории русской поэзии почти невесом какой- нибудь Бенедиктов, а в истории русской драматургии какой- нибудь Кукольник. Но, как это ни парадоксально, интерес к ним чуть ли не вытеснил из сознания русского читателя самого Пушкина. И разве автору "Мертвых душ" не пришлось конкурировать с успехом первого русского "плутовского романа" "Иван Выжигин", пусть его автор - Булгарин и заслуживает только презрения. Историку литературы приходится заниматься и Бенедиктовым, и Кукольником, и Булгариным хотя бы для того, чтобы определить подлинное величие Пушкина и Гоголя.
Поэтому мне жалко, что историки нашей кинематографии иногда обходят вниманием такие фильмы, как "Танька-трактирщица" или "Иуда". Конечно, они заслужили забвение, но в то же время именно они характеризовали противоречивое и сложное развитие пашей кинематографии. Недаром целая группа критиков и практиков, среди которых был и Л. Кулешов, противопоставляла эти фильмы как образцы подлинно революционной кинематографии работам таких режиссеров, как Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко.
Кроме того, внимание к второстепенным, забытым и полузабытым именам и явлениям иногда приводит к открытиям. Так, Ю. Н. Тынянов "воскресил" для истории русской поэзии В. Кюхельбекера и тем самым по-новому охарактеризовал процесс рождения поэзии Пушкина. Так, тоже в наше время, были "разысканы" и по достоинству оценены ранее вытесненные из истории литературы И. Павлов и А. Вельтман, и оказалось, что первый из них писал новеллы не менее значительные, чем прославленный Мериме, а второй во многом предсказал стиль, развитый и утвержденный Гоголем.
Такие имена есть и в нашем искусстве. Так, мне кажется, еще дожидается "открытия" творчество Александра Медведкина, мастера своеобразного и значительного и в художественной и в публицистической кинематографии.
Это, может быть, слишком длинное для небольшой статьи вступление написано ради оправдания того, почему одновременно с моим интересом к творческой личности Павла Петровича Петрова-Бытова я заинтересовался и тем, что представляли для истории нашего искусства воззрения и практика этого режиссера.
Я не собираюсь, подобно Ю. Н. Тынянову, "открыть" забытого и оклеветанного гения. Петров-Бытов не оставил ничего такого значительного, чтобы его "воскрешать". И не нужно поправлять историю и преувеличивать роль этого человека в нашем искусстве.
Его творческий характер и творческая его судьба, как кажется мне, характеризуют целую полосу развития нашего искусства, а его творческая драма тоже, уже в индивидуальном плане, характеризует это развитие.
Этим он значителен и интересен.
Скажу прямо: Петров-Бытов не был исключительно талантлив. Рядом с ним на "Ленфильме", где прошла почти вся его творческая жизнь, развивались более сильные дарования Эрмлера, Козинцева, Трауберга, Юткевича, братьев Васильевых, Зархи и Хейфица, Червякова. Не был он и недооценен при жизни. Пусть большинство его картин оказались неудачными й справедливо забыты, среди них были две по-своему значительные и привлекшие общественный интерес.
Одно время он, несмотря на свои неудачи, оказался в центре внимания благодаря творческому спору, который он исторически проиграл, хотя как будто и был прав. Об этом парадоксе в связи с его творческой личностью мне придется еще говорить в этой статье.
Короче говоря, историю советской кинематографии можно было бы написать, даже не упоминая о Петрове-Бытове. Так ее, кстати, и написали. Но если не только накапливать заранее известные факты, а глубоко изучать процесс, его прихотливую реальность, строки, написанные мною о забытом режиссере, чей талант не был полностью реализован (а талант этот у него несомненно был), привлекут внимание исследователей, изучающих кинематографию 20-х и начала 30-х годов. И тогда станет понятна и странная, казалось бы, противоречащая логике творческая судьба Павла Петровича.
Мне кажется ненужным рассказывать о биографии Петрова-Бытова и о том, какими путями он пришел в кинематографическое искусство.
Скажу только, что путь его был одновременно и удивительным и типовым. Был коммунистом. Воевал на гражданской. Потом занялся театром, где-то в провинции стал актером, потом режиссером. Затем занимался перемонтажом иностранных картин в Севзапкино в Ленинграде. Пришел на киностудию и начал ставить картины. Сейчас этот путь кажется исключительным. Тогда он был типовым. Так начинали работать в кинематографе и братья Васильевы в Москве, а на "Ленфильме" - Ф. Эрмлер и А. Иванов, описавший свой путь в удивительно интересных мемуарах - "Экран судьбы".
Первой картиной, которую поставил Петров-Бытов, была "Волжские бунтари".
Не могу умолчать о том, что первую рецензию па этот фильм написал я. Недавно, готовя к печати книгу статей, я ее нашел. С нее началась моя работа критика в газете "Ленинградская правда" в 1926 году.
Привожу рецензию почти целиком.
"Как делается пушка? Берут дырку и обливают ее сталью. Как сделана картина "Волжские бунтари"? Взята дырка и облита разнообразными кадрами. Роль дырки в рецензируемом фильме выполняет сюжет. В семи частях ленты наворочено столько людей, эпох, выстрелов и массовых сцен, что они пожирают друг друга. Если бы героя не убивали в последней части, ее можно было бы показать первой.
Лента сделана на полуэкзотическом материале быта чувашей. Но чуваши непохожи, и даже чувашское богослужение выглядит невыразительно. Снимали картину па Волге, с тем же успехом ее можно было бы снять у Литейного моста. У оператора и у режиссера отсутствует выдумка. Редкие остро снятые сцены пропадают в массовочном шаблоне опереточно-драматического сценария. Героиня притянута к герою за косы - нельзя же без любви. Героя сажают в тюрьму несчетное количество раз. Обязательный для агитки, обязательно пьяный исправник с полным знанием дела утилизирует свою нагайку. Все это сделано с дубоватой тщательностью любительского спектакля и снабжено полуграмотными надписями".
Я и сегодня готов подписаться под оценкой этой картины, хотя написана рецензия была не только резко, но и невежливо, если не сказать больше. Я мог бы оправдать ее появление тем, что в ту пору (1926 год) так писали почти все критики. Но, признаюсь, сейчас мне стыдно и горько, что я написал этот отзыв, наверно, потому, что знаю нелегкую судьбу автора фильма, о которой, правда, в ту пору я не мог даже догадываться.
Естественно, что рецензия не располагала к тому, чтобы между Петровым-Бытовым и мною возникли приязненные отношения. Впрочем, несколько позже в той же "Ленинградской правде" я "обложил" Эрмлера и Козинцева с Траубергом, что не помешало нам подружиться.
Почему-то я пе написал в "Ленииградской правде" рецензии на следующий фильм Петрова-Бытова, "Водоворот". Но я хорошо помню, что впечатление об этой картине было совсем другим, чем от "Волжских бунтарей". Картина была не только грамотной, не только темпераментной, но и зоркой. Это был попросту выдающийся фильм о процессах, происходивших в советской деревне. Коллективизация еще не начиналась, но автор фильма правдиво, естественно и драматично показал, как первые кооперативные хозяйства уже начинали теснить кулачество. Ареной борьбы была "единоличная" мельница, но образ, показанный Петровым-Бытовым, был масштабнее, чем перипетии борьбы за коллективный помол зерна. В фильме, пусть несколько угловатом и грубоватом, чувствовалась горячая убежденность автора в том, что в деревню придут новые, революционные отношения, что старый единоличный уклад деревенской жизни исторически обречен.
В тот год было поставлено много картин о деревне. Это было естественно - партия готовила переход к коллективизации. Петров-Бытов не был инициатором постановки деревенской темы в искусстве - вспомним хотя бы, что почти одновременно с ним ставил "Генеральную линию" Эйзенштейн.
Но нельзя не сказать, что "Водоворот" был, пожалуй, лучшим фильмом на эту тему, если под этим понятием подразумевать наиболее полное и впечатляющее осуществление задачи. Конечно, в "Водовороте" не было удивительных творческих находок, которыми отличался фильм Эйзенштейна, по в нем была ясность, темперамент и убежденность.
Режиссер стал овладевать своим искусством.
Но следующая же картина опять подставила Петрова-Бытова под удар критики и насмешки. Называлась она "Право на жизнь". Насколько я помню, сюжет картины был элементарным. В Ленинград приезжает молодая девушка из деревни. Поступает работать на завод. К ней пристает мастер, безнравственный человек, добивающийся ее взаимности. На ее защиту поднимается молодой рабочий, влюбленный в нее. Но и между ними происходит любовное недоразумение. Девушка решает уехать в деревню. Влюбленный молодой человек догоняет ее на вокзале. Все кончается благополучно*.
* (Другой вариант пересказа этого сюжета см. в аннотированном каталоге "Советские художественные фильмы", т. 1. М., "Искусство", 1961, с. 286 (ред.).)
Мелодрама - всегда мелодрама. В ту пору (1928) таких картин ставили много. Тогда они назывались фильмами на "молодежную" тему, сейчас - на тему "моральную". И, честное слово, "Право на жизнь" была картиной не многим худшей, чем, к примеру, "Мой сын" Е. Червякова, который, правда, рассматривался как досадный срыв талантливого режиссера после его поразившей свежестью и мастерством "Девушки с далекой реки".
Я уже сказал, что "Право на жизнь" была подвергнута жестокой критике и даже насмешкам. В этом нужно разобраться. Ответ можно найти в обстоятельствах времени.
Уже "Водоворот" Петров-Бытов ставил в обстоятельствах напряженного творческого поиска. Молодая режиссура "Лен- фильма" (а к ней Петров-Бытов принадлежал и по возрасту и по творческой биографии) пробивалась через излишества, через увлечения, через ошибки к большому стилю советской кинематографии. Искали новую драматургию для выражения сложного и противоречивого времени, стремились к эпическому кинематографу, образцы которого уже были заявлены в картинах Пудовкина, Эйзенштейна, Довженко. Поиски сопровождались формальными, прежде всего монтажными находками. Шла борьба за преодоление иллюстративности кинематографического искусства, за выявление его специфической поэтики. Я не буду подробно описывать сущность этой борьбы, не буду характеризовать рождавшийся стиль - он достаточно подробно проанализирован в работах по истории нашей кинематографии.
В этих обстоятельствах "Водоворот" Петрова-Бытова воспринимался как картина "старомодная", хотя и добротная. Она не давала никаких поводов ни для отрицания ее или опорочивания, ни для признания "открытием", явлением в искусстве. Поэтому эту картину, пусть и холодновато, признали.
Но "Право па жизнь" нельзя было признать ни за что, всякая борьба, и не только в искусстве, одновременно утверждает свои принципы и отрицает старые. Борьба шла не только за новый политический, публицистический кинематограф, но и против иллюстративно-мелодраматического стиля старого кинематографа. Изменилось понимание драматизма. Он воспринимался только в рамках исторических столкновений, в рамках столкновения человека с историческим процессом. Мелодраматизм с его поэтикой "частной жизни", частного случая, с его замкнутым морализмом, казался стилем ограниченным, мещанским и, что еще важнее, отвлекающим искусство от решения его основных социальных и эстетических задач.
Борьба с мелодраматизмом не могла не сопутствовать утверждению нового стиля, поискам нового, небывалого кинематографа. Особенно остро эта борьба шла в ленфильмовском коллективе, где сложилось положение, при котором удерживали сильные позиции режиссеры прежних поколений - такие, как талантливый В. Р. Гардин, и такие ловкие ремесленники, как Ч. Г. Сабинский и В. В. Висковский.
Это они заполняли экраны мелодраматической продукцией. В мелодраму о том, как жестокое правительство разлучило влюбленных Полину Гебль и Анненкова, А. В. Ивановский превратил заслуживавшую трагического и эпического воплощения картину о декабристах. В мелодраму о соблазнительном любовнике, использующем светскую интригу против обманутого мужа, В. Гардин превратил картину о трагической гибели Пушкина. Висковский ухитрился превратить в заурядную мелодраму даже картину о трагедии Девятого января.
Такими же были и фильмы о современности, если их ставили эти режиссеры.
Поэтому началась ставшая перманентной дискуссия о старых кинематографических, и прежде всего мелодраматических, формах.
Казалось бы, спор шел о разных проблемах. Спорили о монтаже и об актерах, о драматургии и об операторском мастерстве. Но когда шел спор об актере, речь шла о типе героя и об его месте в драматургии. Если спорили о драматургии, это выливалось в отставание эпических элементов в ущерб мелодраматическим. Если дискутировали об искусстве операторов, спор шел о предпочтении творческого воссоздания действительности и об осуждении безличного натурализма.
Естественным было то, что в споре участвовали не только теоретические декларации, но и картины. Шло размежевание стилей, причем один, новый стиль, предъявлял все большие и большие достижения, а другой, старый стиль, па глазах угасал.
И казалось только естественным, что люди, пришедшие в кинематографию вместе с революцией, отталкивали, даже отшвыривали дореволюционную режиссуру. Воспринималось болезненной изменой, если молодой по возрасту и революционер по биографии режиссер оказывался в стане архаистов. Этим человеком оказался Павел Петрович Петров-Бытов.
И с ним, что называется, творчески "рассчитались". В картине "Право на жизнь" был такой эпизод: любовное недоразумение между героями закапчивается разрывом. Девушка решает уехать из Ленинграда. Герой бросается в погоню. Словом, возникает ситуация обычной финальной погони, которыми заканчивались тогда пе только мелодрамы. По неписаным законам жанра погоня должна изобиловать препятствиями, которые должны вырастать на пути героя и мешать ему догнать ускользающую героиню. Обычно в американской мелодраме герой преодолевает бурные реки, мчится в снежном буране, борется с бездорожьем, перескакивает через горы и пустыни. Но дело происходит в Ленинграде, где нет пропастей и лесных завалов, где нельзя па пути героя взорвать мосты и даже разобрать трамвайные рельсы. И вот Петров-Бытов заставил своего героя преследовать героиню в праздничном, ликующем, первомайском Ленинграде. Основным препятствием, которое должно было заставить зрителя волноваться, успеет или пе успеет догнать герой героиню, оказалась возникшая на пути преследования первомайская демонстрация. Кстати, именно она, демонстрация, была снята режиссером хорошо, с темпераментом, выдумкой и масштабом. Но это только подчеркнуло почти пародийную бессмыслицу эпизода. Революционный праздник призван был подменить злодея, мешавшего соединиться влюбленным. Зритель должен был эмоционально осудить этот праздник, если не возненавидеть его.
За этот эпизод Петрова-Бытова не только осмеяли, но даже ошельмовали.
Я так подробно рассказал о нем пе зря. Дело было не только в отдельном неудачном эпизоде. Речь шла о кардинально изменившемся отношении к кинематографу. Случай, показанный Петровым-Бытовым, мог произойти, ничего фальшивого, незакономерного, неправдивого в нем не было. Так он его и снял. Но критики режиссера по-другому воспринимали искусство. Для них каждый эпизод каждой картины был не только съемкой случая из жизни, а художественной конденсацией этой жизни, бытовой эпизод воспринимался как обязательно значительный, почти символический образ. Первомайская демонстрация, которая для Петрова-Бытова служила только обстоятельством погони, для его оппонентов была цельным образом. Речь шла не об эпизоде, а о подходе к искусству.
Поэтому, увидев "Право на жизнь", "новаторы" - критики, режиссеры - даже обрадовались. Лучшего примера для доказательства того, что иллюстративность и мелодраматизм в советском кинематографе стали бессмыслицей, и не выдумать.
Несмотря па очевидную неудачу фильма, Павел Петрович не сдался. Дело было не в признании неудачи отдельного эпизода его картины. Речь шла о принципе восприятия искусства и, следовательно, об его характере, его стиле, его задачах. Отстаивая свои позиции, Петров-Бытов вовсе не неожиданно выдвинул новую тему дискуссии. Он заявил, что отстаивает искусство народное, а следовательно, искусство общепонятное. Он упрекал новаторскую режиссуру в пристрастии к непонятным изыскам, к символизации, которая отрывает искусство от масс.
Если сегодня прочитать материалы этой дискуссии, она покажется какой-то непродуманной и странной. Кому, в самом деле, могло прийти в голову отстаивать непонятное, герметическое искусство, доступное только жрецам, посвященным в его тайны? Но дело было в том, что Петров-Бытов вольно или невольно нащупал уязвимое звено в практике "новаторов". Нельзя забывать, что их искусство все больше и больше теряло зрителей, становилось непонятным и иероглифичным. Пусть "Потемкин" и завоевал всенародный успех, "Октябрь" с его сложной метафоричностью был воспринят зрителем холодно. И "Конец Санкт-Петербурга" пользовался меньшим успехом, чем "Мать", а "Звенигора" и вовсе не была принята.
Можно объяснить это явление тем, что новое искусство всегда диктует новый способ его восприятия. Но справедливости ради нужно сказать, что новаторское искусство, провозглашавшее верность действительности, в какой-то момент своего развития начало от этой действительности отрываться.
Новаторской кинематографии, которая, что было для нее естественно, вела наступательный бой со старым стилем, со старым пониманием искусства, неожиданно пришлось перейти к обороне. Парадокс заключался в том, что искусство, декларировавшее верность действительности, искусство, полное революционных идей, оказалось в результате чересчур краткого и скорого развития непонятным тому обществу, идеи которого пропагандировало. Я не хочу углубляться в раскрытие логики этого процесса. Мое дело сейчас не столько объяснить причину явления, сколько его констатировать.
Нельзя сказать, что Петров-Бытов был первым человеком, который упрекал новаторов в непонятности и недемократичности. Недаром в ту пору, когда он вступил в борьбу, в кинематографической теории и практике усиленно вводилось понятие "эксперимент", позже смягченное пояснением - "понятный миллионам". С внешней стороны эти термины выражали сущность дела, сущность процесса. В самом деле, искусство, как впрочем, и всякий род человеческой деятельности, не сразу входит в обиход. Так, к примеру, первая железная дорога была менее удобной, чем параконный экипаж. Идеальному решению задачи всегда предшествует эксперимент. И если изобретатель, прежде чем утвердить свое изобретение, производит бесчисленное количество опытов, то можно ли лишать права на экспериментирование художника?
Фильмы новаторов были объявлены экспериментальными: в них искали и находили новые выразительные средства для воспроизведения жизни, новые формы искусства, новый его революционный стиль.
Но и формула "эксперимент" и поправка "понятный миллионам" были внутренне противоречивы. Эксперимент в технике и науке никогда не может быть рассчитан на массовое потребление - тогда он уже пе эксперимент. Герметичности и непонятности искусства эта формула не объясняла. Оправдание непонятности, утверждение права на непонятность не делает такое искусство понятным.
Против хитроумных, отстаивавших экспериментальное искусство формул, против самого этого искусства азартно и темпераментно выступал Петров-Бытов.
Не буду перечислять его аргументы, не буду рассказывать о резких возражениях, с которыми он столкнулся. Но я не могу не сказать, что за свой кинематограф он боролся с незаурядным мужеством, боролся в печати, боролся на дискуссиях в "ЛЕНАРКе". Трудность его положения была в том, что бороться ему приходилось одному.
У него пе было единомышленников, а если и были, то такие, которых он сам не хотел. Защищаясь, новаторы обвиняли его в том, что он утверждает кинематограф Висковского и Сабинского, а он не мог и не умел доказать, что выступает одновременно и против новаторских излишеств и против закоснелого традиционализма. И он боролся против сплоченной группы режиссеров, критиков, драматургов, среди которых были уже прославленные Козинцев, Трауберг, Эрмлер, Юткевич. Они могли сослаться на опыт своих удач и на опыт всей революционной кинематографии, на опыт Эйзенштейна и Довженко. А Петров-Бытов мог сослаться только на свои картины, несовершенные и уязвимые, да еще на свои представления, на свои требования к искусству.
Был ли он прав? Думаю, нет. Он требовал того результата, которого хотели все, но не желал считаться с тем, что этот результат нужно было завоевать в сложной и трудной борьбе, нужно было его "выстрадать", чтобы прийти к созданию подлинно реалистического образа. А Петров-Бытов наивный и вульгарный натурализм архаической кинематографии воспринял как уже найденный результат. Требование его было справедливым, способ достижения результата - нет.
Петров-Бытов был прав, настаивая на народности, на популярности искусства, на его высокой демократичности. Экспериментальное или неэкспериментальное - искусство должно вызывать эмоциональный и интеллектуальный отклик, иначе оно перестает быть искусством.
Но ведь спор о популярности был спором под псевдонимом. Это был спор о том, может ли кинематограф стать самостоятельным искусством, преодолеть иллюстративность, заемную образность. Ведь искусство, которое отстаивал Петров-Бытов, было всего только иллюстрацией к букварю, самостоятельной, идейно-художественной ценности не имевшей.
И вот он приходил в "ЛЕНАРК", который был ему враждебен и не верил ему. Он приходил - высокий, красивый, с живописной гривой рыжеватых волос. Нужно было мужество, чтобы выйти на трибуну - ведь его встречали иронически и настороженно. И все-таки он в который раз повторял и повторял свои аргументы, повторял упрямо, как искренне верующий в правду своих убеждений. Л ведь он знал, что и на этой очередной дискуссии будет разбит. Ему возражали эрудиты, блестящие ораторы, такие, как Трауберг, Эрмлер, Юткевич. В ответ на неуклюже сформулированные его тезисы они приводили сокрушавшие его цитаты из классиков литературы и классиков общественной мысли. Его побивали и Марксом, и Бальзаком, и Энгельсом, и Стендалем, и Белинским, и Толстым.
И он уходил разбитый, но непобежденный. И было ясно, что он опять придет на дискуссию и опять будет бороться за то, что считал истиной.
Однажды нас попытались примирить. За кем была инициатива - не помню. Во всяком случае, мы пришли к нему домой, встревоженные и готовые к бою. Он оказался гостеприимным хозяином, милым, добродушным человеком, как-то но- детски веселым и наивным. В тот вечер этот "мракобес" (ведь мы искренне считали его таким) даже понравился нам. Впрочем". Предложение экранизировать рассказ Горького исходно затихал.
В 1929 году он поставил лучший свой фильм "Каин и Артем". Предложение экранизировать рассказ Горького исходило от Адриана Ивановича Пиотровского. Руководитель "Лен- фильма" любил Петрова-Бытова и относился к нему справедливее, чем мы, его оппоненты. Он увидел, что именно Павлу Петровичу с его открытым и грубоватым темпераментом удастся понять и создать в кино написанный Горьким образ волжского грузчика, который кичась своей неуемной силой, вдруг начинает задумываться о доброте, о ценности человечности. Петрову-Бытову в этой картине впервые довелось столкнуться с высокой литературой, с требованием создать не только иллюстрации к скшету, но и постичь характер героев, возвыситься до подлинной образности. Его подкрепили молодой, очень талантливый оператор Н. Ушаков, смелый в художественных решениях, и удивительный актер Н. К. Симопов, сыгравший Артема.
Когда я увидел эту картину, то первым впечатлением было восхищенное удивление. Неудачи, дискуссии, опыт работавших рядом молодых режиссеров-новаторов, казалось, были восприняты Петровым-Бытовым полновесно и щедро.
Один из ленфильмовских остряков зло сказал, что сила коллектива "Ленфильма" такова, что даже Петрова-Бытова вынудили поставить хорошую картину. Конечно, это было неправдой. Картину ставил он сам. Мы не хотели заметить того, что вместе с нами менялся и он.
"Каин и Артем" был воспринят, как новаторская картина. И что тоже парадоксально - "пемую" картину сделал звуковой и дублировал на французский язык выдающийся новатор и патриарх французского "авангарда" Абель Ганс.
Казалось, Павел Петрович утвердился в мастерстве, в найденных им в работе над рассказом Горького принципах.
Но тут опять последовали неудачи, вернее, нечто более обидное, чем неудачи, - посредственные, рядовые, ремесленные картины. Целых три: "Поворот", в котором он, очевидно, хотел повторить успех "Водоворота", первой своей деревенской картины, "Сложный вопрос" и антирелигиозный фильм "Чудо".
Причины мне кажутся объяснимыми. Кто-то из выдающихся мастеров театра говорил, что успех приходит тогда, когда режиссер и актер взваливают на себя задачу выше своих возможностей. Если ее не осуществить, возникает провал, если она реализована - это новая ступень мастерства и глубины.
Не помню, кто написал сценарии трех картин, которые ставил Петров-Бытов после "Каина и Артема". Впрочем, это и не важно. Работа над образами Горького потребовала от Павла Петровича реализации небывало трудной задачи. Следующие картины были легки, примитивны по замыслу, не потребовали усилий, напряжения, Петров-Бытов был отброшен к натуралистической, иллюстративной кинематографии.
И тут он ушел с "Ленфильма". Правда, на время. Почти одновременно с режиссерами-коммунистами Эрмлером, Калатозовым и Ивановым он пошел учиться на отделение литера туры, искусства и языка, сокращенно названное поэтическим словом "ЛИЯ", в Ленинградском отделении Коммунистической Академии.
Во время случайной встречи со мной он пожаловался, что ему очень там трудно. Мир, казавшийся ему таким простым, оказался удивительно сложным, причем познать эту сложность можно было только при помощи абстракций. Помню, он пожаловался мне, что ему не "дается" Гегель, что он читает его с трудом и не в силах поймать ход его мысли.
Так или иначе, но проучился он в Комакадемии недолго и вернулся на "Ленфильм".
Нельзя сказать, что он взялся за легкую картину. Пиотровский поручил ему поставить фильм о Пугачеве. Ему казалось, что, создав образ горьковского Артема, сильного человека из народа, стихийного бунтаря, Павел Петрович найдет в себе силы создать и образ трагического народного героя. Но Пугачев - образ величайшей исторической сложности, а Петров-Бытов еще не мог охватить эту сложность и личную и историческую: для этого у него не хватало культуры. Несовершенным был и сценарий хорошего писателя Ольги Дмитриевны Форш. На нем пагубно сказалось возникшее в то время принудительное требование социологизации исторического образа. Нужно было показать не столько героического человека, героя народной истории, сколько представителя определенной социальной прослойки со всеми его недостатками. Народный герой оказался в сценарии представителем незрелого крестьянского бунта, у которого не было шансов на успех. Вместо трагического образа нужно было создать всего только социальный портрет. А ведь искусство требует не только понимания слабых сторон героя, по и восхищения им, любви к нему.
Петрову-Бытову и актеру Скоробогатову некого было полюбить в этом сценарии.
Неудачу Петрова-Бытова определило еще то, что рядом с ним Владимир Михайлович Петров снимал "Петра Первого" и вместе с Николаем Симоновым не сдался перед требованиями социологизации - оба любили своего Петра и им восхищались.
В 1940 году Павел Петрович поставил картину о походе Юденича на Петроград. Я помню ее - она была грамотной и умелой, но, как многие фильмы предвоенной эпохи, расчерченной и рассчитанной. В ней была достоверность исторических фактов, но не было пафоса и темперамента гражданской войны. Фильм был сделан умело, по это умение не к чему было приложить.
А потом началась Великая Отечественная. С первых же дней войны Павел Петрович ушел в армию, вернее, вернулся к истокам своей сознательной жизни. В этот период ему было не до кинематографа.
Возвратился он на "Ленфпльм", кажется, через год после войны. Студия оскудела людьми - иные не вернулись, как Евгений Червяков, погибший на фронте, другие остались работать на московских студиях, как Герасимов, Арпштам, Калатозов.
Я не видел картину, которую поставил Павел Петрович в 1955 году на "Ленфильме". Знаю только ее название - "Обманутые надежды". Прошла она незамеченной.
После этого режиссер, бывший одним из зачинателей "Ленфильма", сделавший там немало картин, отказался от работы в художественной кинематографии. Конечно, его не попросили об уходе, не уволили, он ушел сам. Но кинематографию, которой он отдал жизнь, не оставил и принялся за работу на Студии научно-популярных фильмов.
В ту пору, когда в небо еще не поднялся первый спутник Земли и еще никто не помышлял, что мы будем современниками подвига Гагарина, Павел Петрович задумал поставить картину о космосе.
Я уже говорил, что картины, развешанные на стенах Московского Дома кино, были посвящены этой теме. Такой он видел сущность пространства.
Итак, я вернул читателя к началу этой статья.
Конечно, я не могу объяснить парадокс творческой эволюции режиссера-натуралиста, приведшей его к абстракционистской живописи, тем более что я не уверен в том, что эта живопись закономерна для искусства.
Впрочем, я и не претендую на объяснение. Мне важно сказать о другом.
Было время, когда теория, да и история искусства, стремясь к предельной объективной научности, провозгласили как свою основную задачу изучение эволюции эстетического процесса, исключая случайности, исключая субъективные, личностные моменты.
В сущности, пафос формальной школы (и современного структурализма тоже), полемизировавшей с предшествующими ей теориями литературы, был в уничтожении и ликвидации биографических методов исследования. Было провозглашено, что литературный факт важен сам по себе и должен быть изучен вне зависимости этого факта от личности художника, его создавшего. Так был положен конец казавшемуся наивным изучению биографии, сводившему деятельность художника к сумме его жизненных впечатлений.
Социологическая школа также молчаливо подтвердила возможность изоляции личности художника от его произведений. Она требовала изучения искусства как продукта социальных идей, возникших в определенных исторических условиях.
При всей ограниченности методов, и формальных и социологических, в них, конечно, есть зерно истины. Но не вся истина. Разделяя объекты изучения, эти методы, кажется мне, до известной степени умерщвляют живой процесс рождения искусства, которое всегда является не только продуктом социальной жизни или результатом литературной эволюции, но и личностным моментом.
Выключение из художественного процесса личности художника приводит зачастую к возникновению необъяснимых явлений. Так, необъяснима эволюция Петрова-Бытова.
Натурализм в его искусстве объяснить можно. Но чем объяснить его тяготение к абстракционизму?
Между тем именно здесь корень его драмы.
Мне кажется, что драма талантливого человека (а Петров-Бытов им был) заключалась в том, что он, один раз опоздав, потом не мог догнать даже самого себя - ведь был момент, когда он, опередив время, создал передовую по стилю картину. По после этого у него не хватило сил осознать причины своих неудач, так же как он не мог осознать причину успеха. Это и привело его к жестокому и мужественному пересмотру всего, что он делал. Наверно, этим пересмотром и был вызван его отказ от работы в художественной кинематографии. Больше того, он хотел вернуться к искусству, пройдя заново весь его путь. Он искал свое искусство и в том, что умел, и даже в том, что ему было противопоказано всем строем души, всем воспитанием, пристрастиями, вкусом. Отсюда и его обращение к абстрактной живописи.
Конечно, он вернулся бы к реализму, но уже сознательно, а не потому, что так работали все другие. Но для этого нужно было соединить органические склонности со знанием. А это требовало поисков.
Эти поиски остановила смерть.
Мне кажется, что мужество неудачника иногда ценнее для искусства, чем легко завоеванный успех.
|
ПОИСК:
|
© ISTORIYA-KINO.RU, 2010-2020
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'
При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'